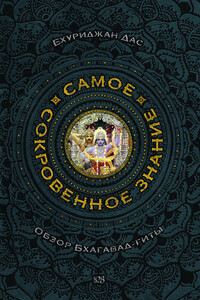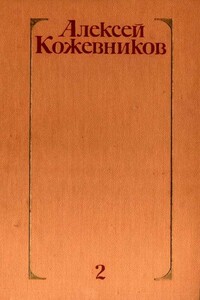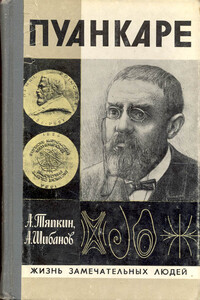Предисловие к русскому изданию
Если набрать слово «Бхагавад-гита» в поисковой системе Интернета, на экране вашего компьютера появятся ссылки на более чем шестьсот тысяч страниц (а на английском языке – более чем три миллиона). Вам не составит труда узнать, как возникла Гита и кто переводил и комментировал ее на протяжении тысячелетий со времени ее создания. Вы узнаете, что для сотен миллионов последователей индуизма по всему миру это небольшое произведение является своего рода Евангелием – главной книгой, по которой они строят свою жизнь. Вы увидите, кто из великих людей восхищался Гитой, и получите отзывы ревнителей и хулителей Бхагавад-гиты с многочисленных форумов. Но Бхагавад-гита не была бы Бхагавад-гитой, если бы о ней нельзя было написать что-то новое. Бхагавад-гита так же неисчерпаема, как Сам Кришна, рассказчик Гиты, и каждый может найти в этой небольшой книге что-то свое – уникальное и неповторимое.
Мое знакомство с Бхагавад-гитой произошло в 1980 году. Университетский друг тайком дал мне на несколько дней почитать маленькую книжицу, ксерокопию с ксерокопии дореволюционного (и, конечно же, запрещенного) издания Гиты, переведенной с английского Теософским обществом. До сих пор отчетливо помню единственную мысль, которая звучала в моей голове после того, как я за пару вечеров прочитал эту книгу: «Если всё это правда, я должен начать жить по-другому». Первая часть этой мысли («если это правда») была всего лишь робкой попыткой сохранить пути к отступлению – в конце концов, кому хочется резко менять свою жизнь? Однако в глубине своего сознания я понимал, что столкнулся с Истиной, слишком настоятельной, чтобы отнестись к ней просто как к еще одному мнению, на которое можно не обращать внимания.
Чем же поразила меня эта книга? Очевидно, что не глубинным смыслом – едва ли я понял его, пробираясь сквозь дебри туманного, архаизированного перевода. Не думаю, что на меня произвела впечатление поэтичность теософского перевода – в русской литературе были и есть куда более совершенные образцы возвышенной поэзии. Едва ли мое ощущение можно объяснить чрезмерной впечатлительностью, несамостоятельностью мышления или склонностью попадать под чужое влияние – воспитание в семье научных работников и учеба на химико-биологическом факультете МГУ давали о себе знать. Сейчас, спустя тридцать лет, я понимаю, что поразило меня тогда и продолжает поражать до сих пор: непривычное сочетание бескомпромиссно-теистической духовности с предельной рациональностью и логичностью. Синтез этот был очень органичным и целостным. Я словно разом получил ответы на все вопросы, которые мучили меня многие годы.
Прочитав к тому времени огромное количество самых разных книг, я привык думать, что духовность неизбежно должна выражаться в виде расплывчатых аллегорий, метафор или мифологем и апеллировать к вере, интуиции или подсознательным страхам. Я практически смирился с тем, что рациональности и логике нет места в сфере духовного, что они приложимы только к области материального знания. Законченным атеистом я не был, но и причин менять свою жизнь только потому, что на протяжении истории человечества разные умные люди верили в существование Бога, у меня тоже не было. Я хорошо понимал, что, признай я существование Бога, мне придется разрываться между двумя параллельными мирами – реальным миром, в котором я живу и действую, и миром моих верований. Но в Бхагавад-гите я увидел образец очень естественного синтеза рациональности и духовности. Духовный реализм Гиты открывал возможность примирить две реальности – реальность моего сердца, интуитивно знавшего о существовании Абсолютной Истины, породившей этот мир, и реальность моего скептически настроенного разума, с жадностью познававшего относительные истины мироздания.
Открытие это одновременно восхитило и напугало меня.
С одной стороны, я увидел возможность обрести гораздо более глубокий смысл в жизни и более возвышенную цель. С другой стороны, я сразу понял, насколько радикальным должен быть поворот в жизни, к которому обязывало меня даже такое поверхностное прочтение Бхагавад-гиты. Но даже этот мой страх – и это, пожалуй, поразило меня больше всего – был предвосхищен в самой Бхагавад-гите. Ее герой, Арджуна, тоже испугался перед решительным боем. Я понял, что слова Кришны: «Откуда это позорное малодушие? Как оно могло войти в твое сердце? Встань и сражайся, о покоритель врагов!» обращены прямо ко мне, и потому решил вступить в бой, к которому призывала меня Гита.
Разумеется, первое, что я сделал, – это попытался найти другие переводы Бхагавад-гиты и почитать научные исследования, посвященные Гите. Я хотел глубже понять ее смысл, но, к моему удивлению, современные индологи ставили под сомнение как раз то, что показалось мне в этой книге самым ценным – ее целостность и законченность. Вот что, например, пишет русский индолог Д. Серебряный: «Критический ум человека новоевропейской культуры не может не увидеть в «Гите» различные противоречия. Но одни склонны были „списывать“ эти противоречия на поэтическую, художественную природу Гиты […] Другие же, настаивая на определении „религиозно-философская“, пытались дать то или иное объяснение усматриваемых в поэме противоречий. Один из путей подобного объяснения – выявлять в Гите разные исторические слои: некое первоначальное „ядро“ и позднейшие интерполяции. Этим путем шли в основном немецкие исследователи Гиты. Так, Р. Гарбе в своей известной работе из 700 строф Гиты „забраковал“ 170 как „неподлинные“. Ученик Р. Гарбе, известный религиовед Р. Отто, пошел еще дальше и признал „подлинными“ только 132 строфы». Вивисекторы от индологии обращались с этой живой книгой так же, как их коллеги-биологи с лягушками, морскими свинками и белыми крысами. Читать эти «исследования» и созданные на их основе переводы было почти так же больно, как смотреть на опыты над животными в лаборатории МГУ, где я тогда работал. Ничего, кроме досадного чувства разочарования и обмана, они не оставляли, но впрочем цели своей достигали: принимать всерьез слова Кришны в Бхагавад-гите после них не хотелось. Однако, решая, чьи же слова принимать всерьез – слова этих исследователей или Кришны, – я выбрал последнее. Помог Пушкин, очень точно описавший, чем обычно занимается аналитический ум западного человека, когда сталкивается с явлением, выходящим за рамки его понимания: «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп».