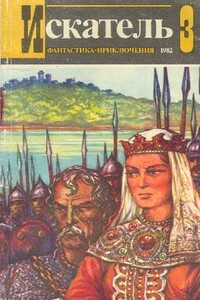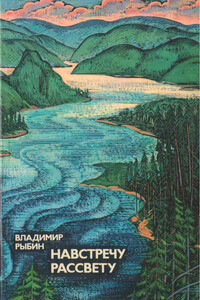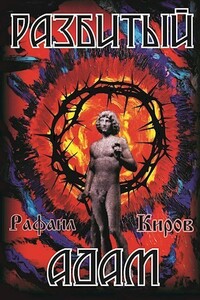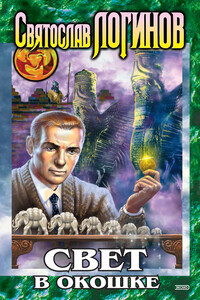Сон был странен и почему-то страшен: ослепительно белые колонны, увитые виноградом, позолота высокого потолка, прохладный мрамор пола, на котором отдыхали исколотые камнями босые ноги. И одни и те же фразы назойливо лезли в уши:
"В белом плаще с кровавым подвоем… ранним утром четырнадцатого числа… в крытую колоннаду…" Он видел их обоих — этого самого человека в белом плаще, сидевшего в кресле, и другого, стоявшего перед ним, худого, небритого, со связанными сзади руками, — видел со стороны и в то же время был как бы и тем и другим, думал за них, говорил за них.
— Зачем ты смущал народ?
— Я видел, что людям можно помочь.
— Что тебе до этих людей? Разве ты один из них?
— Я не знаю, кто я.
"Зато я знаю, — подумал сидевший. — Был бы из них, катался бы в ногах, просил помиловать. А упросив, плевался бы, смеясь над судьей, которого одурачил. А этот ни о чем не просит, ни на кого, выгораживая себя, не наговаривает. Говорит правду, даже когда выгодней соврать".
— Они приговорили тебя к смерти. Те самые, кому ты хотел помочь.
— Люди часто ошибаются.
— Эти люди редко ошибаются. Они приговорили тебя к смерти на кресте, зная, что такой приговор должен утвердить я. Они хотят убить тебя моими руками. Он замолк: не говорить же подследственному, что не верит в его виновность.
— Я хотел только, чтобы истина дошла до них.
— Истина? Что есть истина?
"Вот ты и попался, — подумал сидевший. — Ответишь, и я узнаю, откуда ты родом. Для римлянина истина — юридическое, правовое, не противоречащее римским законам, для иудея — это неизменность, соответствие вечному Закону. "Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из Закона пропадет", сказано в их учении. Ну а если скажешь, что истина — нечто жизненное, меняющееся, значит, пришел издалека-из Индии или же из тех таинственных земель, что лежат по ту сторону Понта Эвксинского…"
Неожиданный треск скатился по знойному лучу, наискось пронизывающему пространство, и оба они разом взглянули вверх, в блеклую синеву неба, просвечявающую меж высоких колонн. И погасло видение, и замельтешило вдруг, как на экране у зазевавшегося киномеханика. Снова послышался треск, и Андрей окончательно проснулся. Полежал, удивляясь сну. Увиденное и пережитое не уходило, не заплывало в памяти, как всегда бывало после пробуждения. Вспомнил, что недавно смотрел очень неприятный фильм Пазолини "Евангелие по Матфею", что в тот вечер был долгий разговор о фильме, о романе Булгакова "Мастер и Маргарита", о загадочности образа Христа, и успокоился: все обыкновенно, никакой мистики. Опять затрещал телефон. В трубке дребезжал, как всегда крикливый, голос дежурного по отделению милиции лейтенанта Аверкина:
— Савельев! Спишь, что ли? Не дозвониться. Давай ноги в руки…
— Что случилось-то?
— Случилось, тут одна баба двух мужиков под электричку загнала.
— Что?!
— Срочно давай. Дэмин сказал: твое это дело. Смотри не засни, больше будить не буду.
— Погоди. Я же в отпуске.
Но трубка уже частила гудками. Андрей сунул руку под подушку, достал часы. Было ровно семь утра. Семь утра?! Вспомнился вдруг чей-то рассказ, что будто бы тот приснившийся ему суд Пилата над Иисусом начался к ровно в семь утра. Это совпадение почему-то встревожило. И пока брился, он все думал о фильме, о книге Булгакова, о своем сне, который никак не забывался. И еще вспомнилось, что Пилат-то, по существу, пытался спасти Иисуса, придумывая то один довод, то другой, чтобы не утверждать решение Синедриона о казни, И жена-то его уговаривала. Дескать, видела сон, а сны перед пробуждением сбываются… "И у меня перед пробуждением", — подумал адруг Савельев. На минуту он застыл у зеркала, словно впервые увидев себя намыленным, и испугался своего вида. Подумалось, что в зеркале кто-то другой, бледный, пятнистый от какой-то копоти и будто от ожогов.
— Черт знает что! — выругался он, промаргиваясь, мотая головой.
Непонятно, по какой аналогии вспомнилось вдруг давнее дело, так и не раскрытое им. Еще зимой была обворована одна квартира. Чисто обворована ни взломанной двери, ни разбитых окон и вообще никаких следов. А унесли, как уверял хозяин, только старинное серебро — ложки, вилки, бокалы, супницу, — всего больше ста предметов. Ценность по нынешним временам неимоверная. Кто-то знал, что брать. Правда, хозяин — Клямкин — оказался потомком богатой до революции купеческой фамилии, и это, вероятно, было вору известно. Но серебряный сервиз, чудом уцелевший после всех реквизиций и конфискаций, наверняка прятался от чужих глаз, и, если о нем все-таки разузнали, значит… Вот тут и вышла закавыка. Хозяин клялся, что, кроме него одного, никто про сервиз не знал. Полгода следили за рынками и комиссионными магазинами, думали — всплывет серебро. А оно как в воду кануло, и у Савельева начало закрадываться сомнение: а не врет ли Клямкин, не перепутались ли у него в голове времена на старости лет?..
Снова затрещал телефон, тихо и хрипло затрещал, незнакомо, и это тоже отозвалось в душе смутной тревогой.
— Слушаю! — раздраженно сказал он в трубку, сердясь на самого себя: такого с ним еще не бывало, чтобы сонная одурь не проходила сразу, как вставал. На другом конце провода кто-то кхекал, откашливался.