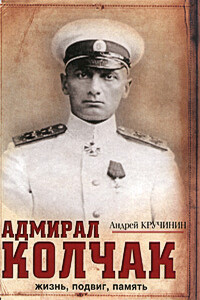Денис ЯЦУТКО
РЯЗАНЬ
Вот те мава, а впадая в ребячество, неволился зеломой охотою вострить зубы своего андалузского кобеля-креола в ближний бор, по те, что во рту не растут - не водятся. А поелику не всё близкое нам вкусить могуче, то и соборы творились, что те вселенские, однако тональности самой конспиративной, чтоб усоседившиеся вчужеродцы не взяли на свой качественно опломбированный зуб стёжки петровы секретные и всю полагаемую добычу не усюркупили. Влипнуть в науку-гишторию с теми соседями не позволялось петровым международным положением, а потому и кабыздох пустолайством не занимался, за которое и был в противном случае ранее бит. Случай же не то слово противен был, а, посердцу высказаться, берешиту нашему тихому отвратителен: было Петру подконфортило лесу закинуть туда, где соседские раки зимуют ( у тех морозильник в амбар), и баночек с надписью ?САТКА? извлёк удачливый около, сами понимаете, десятка, а пся крев андалузская, предметы сии узнав, кои оному с целью облизывания по съядении поощрением выдавались, подняла лай гомонический, подобный, сказывают, тому, что разбудил, гусиный, древних Рима жителей, когда навострялись туда досточтимые по сей день в преданиях наши и Петра дедушки с целями более даже римлянам разорительными, чем доки-грибника тишайшая вылазка за консервированными ракообразными с целью единственно поесть или закусить, совершаемая, по устоявшейся народными уложениями в сих палестинах традиции, третьево дни месяца, который из-за стены снежной приводит весну-деву и воинству серых туч карачун и рассеяние несёт, как упомянутый Рим иудейску народу, а в этот день, сказывают у разными языками по-русски глаголящих, что у волка в зубах, то от Егорья Батьковича ему презент, но - оберечься не в грех войти, а по той причине Пётр тогда арапам соседним попадаться, как и теперь, по грибы, не желал, но полухорт, прыгучейших выкусывать в тот раз приостановив, возлаял, ликуя банкам крабовым, не зная, что на шкуры своей негустой беду, ибо Пётр, арапами нещадно учёный по конфискации заморской добычи, учёность сию на пса перенёс четырекратно и добавив на следующий день оглоблей, а потому, семеня пурпуровоперстым утром за хозяином во ближний бор по сытные трюфеля, андалузец сей, вжав хвост меж задними средствами передвижения, не поскуливал даже и ожидал всё пинка за дыхание собачее своё громкое, но, по разумению Петра, другим макаром и шарпейборзые не дышут, а потому ударен не стал. А если бы, думаю, и во рту росли, то не огород бы был, а ближний или какой другой бор или хоть бы танковая директриса, где мухоморами впервые был восхищён, но восхищён не в смысле эйфорического воспарения, коего, пишут в газетах и библиотеках, берсерки, поедая оные, достигали, а в смысле - природной ево красотой, глазами, вероятно карими, наблюдаемой с желанием возопить: "Красота-то какая, Господи, Которого дела славны и Сам весь свят и пища Его вся духовная!" А сам-то кормил Господа баснями, аки соловья - дымом, обеты давая не потреблять веселящего, а знамо ведь было Петру, что не след, в умных откровениях сказано, клясться не пить перед Господом, ибо - не сдержать клятвы такой и, Господа тогда вспомнив, страх заберёт, аки пса-андалузца, что бежит теперь, прижав метёлку свою малую к корпусу. И то верно: пискнешь - ударит. А страх забирал неожиданный, если по-матери в небо, твою, мол, мать, выругаться, а после раскинуть мозгами: это ж Чью Мать ты, Пётр, помянул, в небо ясное глядючи? И поразит тебя молонья-гнев Господень, пригнёшься, как когда понял, что арапы-соседи побьют, отведёшь рукой ветку еловую, шаг шагнёшь один, и уже смешно, потому как шаг назад был ты ещё не в бору, а теперь в бору, и скачешь в нём середь сосен, аки блоха у кабыздоха в шерсти, и думается, что вдруг изогнётся Земля и тебя из шкуры своей паразита выгрызет . Бр-р... ет. е выгрызет. и с кем такого не было, а счего с тобой должно быть? е возгордился ли ты, об такой предполагая своей исключительности? Или совсем просто так подумал? Вот и молчи себе. Поразмысли лучше, зачем человек просто так думает, когда и дела особого нет для думания. Говоришь, что чтобы ум расслабления себя не имел? А для чего тогда в человеке мужское расслаблено большею частью, в основном лишь для непосредственного напрягаясь? А по утрам? возражаешь ты мне, Пётр, что ж, говорю, может, что оно и по утрам - для непосредственного, только ум, расслабления не имеющий, а потому не в том же такте живущий, к другому влечёт, в магазин, или к поэтическому, или вот за глазастыми в ближний бор. у, можно уже и голос, андалузец. Мавры могут идти к мавам со своими делами. И понюхай тут. Трюфелей, чай, не откажешься отчистки в кашу тебе добавить, а то и целый от стола выклянчить. Вот и ищи, а то ж я один-то их как изпод земли-то унюхаю? Чай не ищейный у человека-то нюх. И не жри! Только лай, а то знаешь меня - обломаю озоровать... лай! Чудище. А проглот, что твой грейдер, землю носопыркою конопатит, мхи от оной мягкие отделяя, и глядишь, а гденибудь-таки глянет на тебя из-подо мха обомлевшее, сиречь трюфель, а пукой чудской Пётр ево окучивает и поименует груздём, в туясок немалый отправляя. И удивительное же, говорю, дело были те мухоморы, что в бытность службистскую на директрисе нечаяно Петром запримечены. На директрису в маневры с соратниками поплелся по причине скудости пищи в войсках, хотя и триежеденно регулярным образом полагаемой, по словам соратников - по грибы, однако же, требуемых немало собрав, бывал свои товарищи посрамлен за поганство, якобы, собой собранное. Что же этоб, говорит, разве волнушки или опята поганки вам? А, отвечают соратники, нам ни к чему мелочь с поганью различать, ибо в мягких муравах у нас, не в пример, или быстрее даже в пример, вашим кайсацким степям, водятся белый батюшка-гриб, чей мясистость и вкус с прочими несравним есть, или хоть закусывать. Доверился Пётр однополчанам, вынул с ведра своево взятое и примеру последних следовать разрешился. о и опять ругают ево товарищи: Что же ты, говорят, этот взял - он же не батюшка даже, а токма в прадедушки и сгодится, и шелковистые из него хищными ртами выглядывают. Вот, как сейчас, только то, конечно, не то было, трюфели ибо - особые существа в сём царстве: они на тебя не червячными головками, а самым, что ни скажи, человечьим моргалом моргают, да так, что ажно и боязно-то бывает: что как они там в себе и думать ещё кумекают. Пукой чудской отточеной эти глаза разрезаю, чтоб не казалось, что из туяска укоризною бельмы сии на меня озираются. А некие, я видал, эти глаза вёрткие выковыривают и готовят от трюфелей сих кошерно. Вот уж истинно безответность! А то еще говорят о твоих, метис, родичах, что, мол, понимают всё и глядят, а адекватно вслух отразить ситуацию не в состояньи. Какое там! Те кобели и подруги их могут, по крайней хотя бы мере, той рыбой ходить, что имя ей - Юз, помелом, когда не купировано (словцо-то неверное: коли от "купно", так "откупировано" вернее) вихлять, а и лаять способны. чему побои на обоих - свидетельство краше, чем Иеговы. А на арапов-мавров Пётр, полагая себя духовнее оных по православию, их, монофизитов, ровно вдвое, злобы под сердцем не задерживал, а полагал даже младшенького из братьёв на собственной своей сестры поженить, девке, понятное дело, телом белой и косой дорастающей до того места. где у кабыздоха хвост начинается, а кабыздох оный страшно залился вдруг лаем и очертеня диавольски голову свою кабыздошью с лаем, из лёжки зайца подняв, за косоглазым по пущеневольнической своей врождённой необходимости побежал, оный же русошерстый таковыми цик-цаками пса петрова замотать решил, что сразу видать, что тутошний, а не городской ни разу, и среди хуторских никто так между деревьями не просигает, да и не живут, знамо, зайцы на хуторах, а которые кролики, так те в клетах, а карликовые - на поводочке, зулотом золочёном. Пётр кричит андалузцу, кудаж, мол, ты, дурень безмозглый, за косым учесал умотаться без толку-то всякого, когда хозяин твой без бердана, а с туяском разве вдобно за зайцем бегать? Да и бросить коль туясок, неужели за уши рукой дикого изловить, а и сам, собачья душа, на что охотник, а не изловишь, поелику с наготой рук за зверем здешним гоняться не след, Петру со младенчества сие на деле известно, не последует и сейчас, и в светлом, которое будущее, ибо в радостные года бегал Пётр с батюшкою, по пикники пойдя, за зверьком малым с именем милым Ласка, и загнаны лишь с отцом оказались, как тот конь Королевскаго Величества Хуго, который зайца, однако, за уши изловить изловчился, но токма зайчатина псовьему сердцу милей, видать, более, чем глазастые эти подземники, но не поймает. А Пётр трюфель новый окучивает и на глаз ево человечий который год дивится, более чем на те мухоморы, которые, сотоварищам помочь отчаявшись и став бродить у заросших колей танковых неприкаянно, глазом пытливым заметил и ажно был восхищён красотою их, большею, чем в грибнических книжицах репродукции, только вот, глаз глазастику разрезая, жмурился как-то, думая будто, что и у него ведь такой же. Хотя, думал Пётр, я впрочем на трюфель не очень похож, зато Земля, вот, сказывают, не кабыздошьего интерьеру, а самая, что есть, круглая трюфелем и глядит. А я, в таком разе, на нём микроб. Ежели трюфель я, или, скажем, андалузец мой, зайца гонять бросив, откушаем, то евонный-то глаз лопнет попросту, а то переварится. А вот микроб, что на трюфеле, какой-нибудь, маврами в тутошние края занесенный, он как себя-то почувствует? Верно, темно ему станет в гортани или желудке там скажем моём, как в Отжим-ушкуйских печорах каменных, когда мопасан тамошний лампу загасит. Тако жде и нам должно стать, когда земной трюфель съедят. Кто ж его съест-то? Бог разве? И зажмурился Пётр, трижды чтя древнее Трисвятое.