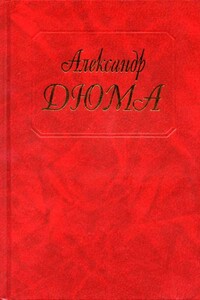Г-н Полевой и г. Ободовский завладели сценою Александрийского театра, вниманием и восторгом его публики. И если нельзя не завидовать лаврам сих достойных драматургов, то нельзя не завидовать и счастию публики Александрийского театра: она счастливее и английской публики, которая имела одного только Шекспира, и германской, которая имела одного только Шиллера: она, в лице гг. Полевого и Ободовского, имеет вдруг и Шекспира и Шиллера! Г-н Полевой – это Шекспир публики Александрийского театра; г. Ободовский – это ее Шиллер. Первый отличается разнообразием своего гения и глубоким знанием сердца человеческого; второй – избытком лирического чувства, которое так и хлещет у него через край потоком огнедышащей лавы. Там, где у г. Полевого не хватает гения или оказывается недостаток в сердцеведении, он обыкновенно прибегает к балетным сценам и, под звуки жалобно-протяжной музыки, устроивает патетические сцены расставания нежных детей с дражайшими родителями или верного супруга с обожаемою супругою. Там, где у г. Ободовского иссякает на минуту самородный источник бурно-пламенного чувства, он прибегает к пляске, заставляя героя (а иногда и героиню) патетически-патриотической драмы отхватывать в присядку какой-нибудь национальный танец. Обвиняют г. Ободовского в подражании г. Полевому; но ведь и Шиллер подражал Шекспиру! Обвиняют г. Полевого в похищениях у Шекспира, Шиллера, Гете, Мольера, Гюго, Дюма и прочих; но это не только не похищения – даже не заимствования; известно, что Шекспир брал свое, где ни находил его: {1} то же делает и г. Полевой в качестве Шекспира Александринского театра. Г-н Полевой пишет и драмы, и комедии, и водевили; Шекспир писал только драмы и комедии: стало быть, гений г. Полевого еще разнообразнее, чем гений Шекспира. Шиллер писал одни драмы и не писал комедий: г. Ободовский тоже пишет одни драмы и не пишет комедий. Г-н Полевой начал свое драматическое поприще подражанием «Гамлету» Шекспира; г. Ободовский начал свое драматическое поприще переводом «Дона Карлоса» Шиллера. Подобно Шекспиру, г. Полевой начал свое драматическое поприще уже в летах зрелого мужества, а до тех пор, подобно Шекспиру, с успехом упражнялся в разных родах искусства, свойственных незрелой юности, и, подобно Шекспиру, начал свое литературное поприще несколькими лирическими пьесами, о которых в свое время известил российскую публику г. Свиньин{2}. Г-н Ободовский, подобно Шиллеру, начал свое драматическое поприще в лета пылкой юности. Нам возразят, может быть, что Шекспир не прибегал к балетным сценам, и Шиллер не заставлял плясать своих героев: так; но ведь нельзя же ни в чем найти совершенного сходства; притом же балетные сцены и пляски можно отнести скорее к усовершенствованию новейшего драматического искусства на сцене Александринского театра, чем к недостаткам его. После Шекспира и Шиллера драматическое искусство должно же было подвинуться вперед, – и оно подвинулось: в драмах г. Полевого – с приличною важностию менуэтной выступки, а в драмах г. Ободовского – с дробною быстротою малороссийского трепака, – в чем, сверх того, выразились и степенные лета первого сочинителя и порывистая юность второго. Что же касается до несходств, – их можно найти и еще несколько. Шекспир начал свое поприще несчастно, – г. Полевой счастливо; Шекспир не обольщался своею славою и смотрел на нее с улыбкою горького британского юмора, – г. Полевой вполне умеет ценить пожатые им на сцене Александринского театра лавры. Шиллер был гоним в юности и уважаем в лета мужества, – г. Ободовский был ласкаем и уважаем со дня вступления своего на драматическое поприще, и т. д.
Если бы не усердие и трудолюбие сих достойных драматургов, – русская сцена пала бы совершенно, за неимением драматической литературы. Теперь она только и держится, что господами Полевым и Ободовским, которых поэтому можно назвать русскими драматическими Атлантами. Обыкновенно они действуют так: когда сцена истощится, они пишут новую пьесу, и пьеса эта дается раз пятьдесят сряду, а потом уже совсем не дается. Так недавно тешил г. Ободовский публику Александрийского театра своею бесподобною драмою «Русская боярыня XVII столетия»; так недавно тешил г. Полевой публику Александрийского театра «Еленою Глинскою», а на прошлой масленице потешал ее «Ломоносовым», который был дан ровно девятнадцать раз и который уже едва ли дан будет когда-нибудь в двадцатый раз. Сама «Северная пчела» (зри 35 №) выразилась об этом так: «Дайте десять раз сряду пьесу, и она уже старая! Все ее видели, все наслаждались ею, и занимательность пропала. А пусть бы играли ту же пиесу два раза в неделю, она была бы свежа в течение года. Вот придет масленица, и к посту пьеса превратится в Демьянову уху». Полно, правда ли это? Нам кажется, что для такой пьесы, как «Ломоносов», очень выгодно быть представленной девятнадцать раз в продолжение двадцати дней, по пословице: куй железо, пока горячо. Что изящно, то всегда интересно, и занимательность хорошей пьесы не может пропасть ни с того, ни с сего. «Горе от ума» и «Ревизор» и теперь даются и всегда будут даваться. А «Ломоносов» и К° пошумят, пошумят недели две-три, да и умрут скоропостижно, пропадут без вести