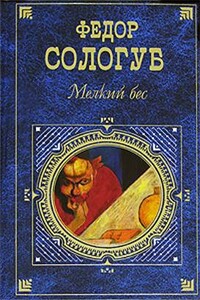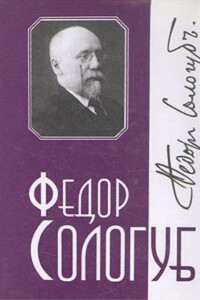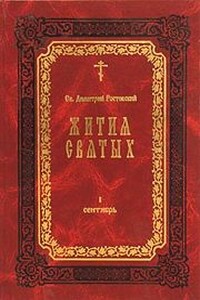Федор Сологуб
Рождественский мальчик
Пусторослев наконец остался один.
Сколько усталости! Целый день встреч и разговоров.
Жгучие, волнующие темы. Заботы и хлопоты о деле, которое так взяло все время.
Так взяло все время, что теперь, в минуту отдыха, вдруг не хочется думать о нем. Усталость обволакивает все чувства липкою пеленою. Глаза не хотят глядеть.
Прилег на диван. На письменном столе стынет недопитый стакан чаю. Бледное, нервное лицо склонилось. На темно-красной подушке оно кажется особенно бледным и худым.
Припомнилась далекая Сибирь. Подневольное житье в ней. Лютые морозы. Земля, которая и летом не оттаивала глубоко. Товарищи суровой ссылки. Долгие, долгие ночи. И такой мрак, и такой холод!
Захотелось безопасности, уюта, семьи. Услышать детский лепет в этой квартире, слишком большой и слишком богатой для одного, - в робкие упражнения на рояли, - и внезапный смех.
Подумал:
"Разве с меня не довольно? Пусть работают другие".
И улыбка. Конечно, пусть другие.
И сразу же знал, что это - так только.
Нет, уже не оторваться от дела...
Опять тонкая дремота.
И вдруг легкие шаги.
Встрепенулся. Открыл глаза.
Никого нет.
Странно, - в последнее время Пусторослев не раз замечал, в минуты усталости и отдыха, что он не один. Чьи-то легкие шаги шуршали по полу недалеко от него, - словно кто-то маленький тихонько проходил мимо него, осторожно, босыми ногами. Маленький, едва достигавший головою до дивана. Подходил, всматривался, поднимая прекрасное нездешнее лицо. Прислушивался. Говорил что-то тихое, и странно внятное. Звал куда-то.
Но стоило открыть глаза, - и странный посетитель с легким шорохом скрывался. И уже казалось, что и не было его.
Сначала Пусторослев не думал об этих посещениях. Мало ли что приснится или покажется в минуты тоски и усталости.
Но вот уже несколько дней подряд маленький гость стал занимать внимание Пусторослева.
Прежде он приходил изредка. Теперь - каждый вечер. И Пусторослев уже начал ждать его.
В неверном, мертвом и неподвижном свете электрической лампы он приходил, легкий, маленький. И шаги его становились слышнее, - словно он уже вырос, стал смелее и решительнее.
Прежде он подкрадывался на цыпочках, - а откроешь глаза, - он укатывался куда-то дробными шагами, как испуганный мышонок, и не разобрать было, куда он убежал.
Теперь он приходил неторопливо, и слышно было, как легко, спокойно и уверенно ступают на паркет его ноги. И Пусторослев не решался еще очень быстро открыть глаза. Тот, ночной, уходил не торопясь, и Пусторослев наконец приметил, куда он уходит.
Это было место на стене. Самое обыкновенное на невнимательный взгляд. Немного ниже и наискось того места, где, в черной раме, висела гравюра, Мона Лиза. Между двух стульев. Узор обоев ничем, по-видимому, не отличался. Но было какое-то странное и значительное выражение в этих зеленоватых странных цветах.
И когда Пусторослев долго всматривался в узор, ему вдруг начинало казаться, что это место на стене чем-то обведено, словно за ним скрывается тайная дверь.
Лежал, закрыв глаза. От лампы на столе поодаль падали неподвижные пятна света на тонкое лицо. Услышал легкие шаги. Маленький посетитель подошел, всматривался в чего-то ждал. И в этом ожидающем стоянии неизвестного посетителя было что-то жуткое, тоскливое, вынуждающее к чему-то.
"Что-то надо сказать или сделать", - подумал Пусторослев.
Он слегка приоткрыл глаза, - и замер от жуткого и сладкого ужаса. Перед ним стоял мальчик, лет десяти на вид, весь белый, тонкий и сияющий. На бледном, точно неживом лице жутко мерцали черные, страшно глубокие глаза. Одежда странного покроя, вся , белая, открывала тонкую, длинную шею, и открыты были выше колен стройные, тонкие ноги. И весь он был спокойный и словно неживой, я только черные на бледном лице глаза жили и настойчиво вопрошали.
Миг один длилось видение, - и скрылось. Пусторослев открыл глаза, быстро встал, двинулся к мальчику, протянул руки, - но мальчика уже не было.
- Милый! кто же ты? где же ты? - воскликнул Пусторослев. Стало тихо. Ожиданием была растворена тишина. И вдруг, - тихий, сладкий и звонкий раздался смех. Пронесся в зыбкой тишине, - и замер. И Пусторослев вдруг почувствовал, что он остался один. Один! Никогда еще с такою значительностью не представало пред ним это столь страшное, столь великое, столь не понятое людьми слово. Одиночество, сладостное и несравненное, великий праздник для великой и надменной души, великое томление для вопрошающего человека!
И в этот миг больно почувствовал Пусторослев, что он только: человек, вопрошающий о неизвестном. В странном порыве тоски
подошел он к тому месту на стене, где под холодною и таинственною
улыбкою Джиоконды таилась дивная дверь, - и странные слова как
бы сами собою родились на его устах:
- И ты хочешь быть человеком? Зачем? Что тебе в нашем бедном существовании?
И тихий голос ответил почти беззвучно, но странно внятно:
- Я хочу.
"Бедные, расстроенные нервы, - думал на другое утро Пусторослев. - Надо уехать из этого жуткого и жестокого города".
Но когда он одевался, в неверном и слабом свете северного раннего утра прошел мимо него тихими и легкими шагами белый, весь белый и спокойный мальчик и сказал тихонько старые, странно земные и трогательные слова: