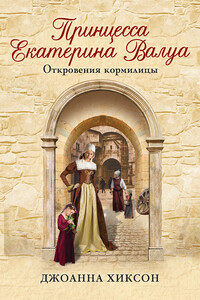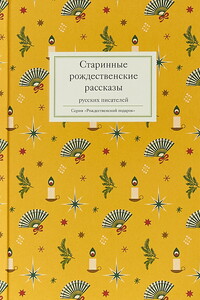Вода, отстаиваясь, отдает
осадок дну, и глубина яснеет.
Меж голых, дочиста отмытых стен,
где глинян пол и низок свод; в затворе
меж четырех углов, где отстоялась
такая тишина, что каждой вещи
возвращена существенность: где камень
воистину есть камень, в очаге
огонь – воистину огонь, в бадье
вода – воистину вода, и в ней
есть память бездны, осененной Духом, —
а больше взгляд не сыщет ничего, —
меж голых стен, меж четырех углов
стоит недвижно на молитве Дева.
Отказ всему, что – плоть и кровь; предел
теченью помыслов. Должны умолкнуть
земные чувства. Видеть и внимать,
вкушать, и обонять, и осязать
единое, в изменчивости дней
неизменяемое: верность Бога.
Стоит недвижно Дева, покрывалом
поникнувшее утаив лицо,
сокрыв от мира – взор, и мир – от взора;
вся сила жизни собрана в уме,
и собран целый ум в едином слове
молитвы.
Как бы страшно стало нам,
когда бы прикоснулись мы к такой
сосредоточенности, ни на миг
не позволяющей уму развлечься.
Нам показалось бы, что этот свет
есть смерть. Кто видел Бога, тот умрет, —
закон для персти.
Праотец людей,
вкусив и яд греха, и стыд греха,
еще в раю искал укрыть себя,
поставить рай между собой и Богом,
творенье Бога превратив в оплот
противу Бога, извращая смысл
подаренного чувствам: видеть все —
предлог, чтобы не видеть, слышать все —
предлог, чтобы не слышать; и рассудок
сменяет помысл помыслом, страшась
остановиться.
Всуе мудрецы
об адамантовых учили гранях,
о стенах из огня, о кривизне
пространства: тот незнаемый предел,
что отделяет ум земной от Бога,
есть наше невнимание. Когда б
нам захотеть всей волею – тотчас
открылось бы, как близок Бог. Едва
достанет места преклонить колена.
Но кто же стерпит, вопрошал пророк,
пылание огня? Кто стерпит жар
сосредоточенности? Неповинный,
сказал пророк. Но и сама невинность
с усилием на эту крутизну
подъемлется.
Внимание к тому,
что плоти недоступно, есть для плоти
подобье смерти. Мысль пригвождена,
и распят ум земной; и это – крест
внимания. Вся жизнь заключена
в единой точке, словно в жгучей искре,
все в сердце собрано, и жизнь к нему
отхлынула. От побелевших пальцев,
от целого телесного состава
жизнь отошла – и перешла в молитву.
Колодезь Божий. Сдержана струя,
и воды отстоялись. Чистота
начальная: до дна прозрачна глубь.
И совершилось то, что совершилось:
меж голых стен, меж четырех углов
явился, затворенную без звука
минуя дверь и словно проступив
в пространстве нашем из иных глубин,
непредставимых, волей дав себя
увидеть, – тот, чье имя: Божья сила.
Кто изъяснял пророку счет времен
на бреге Тигра, в огненном явясь
подобии. Кто к старцу говорил,
у жертвенника стоя. Божья сила.
Он видим был – в пространстве,
но пространству
давая меру, как отвес и ось,
неся в себе самом уставы те,
что движут звездами. Он видим был
меж голых стен, меж четырех углов,
как бы живой кристалл иль столп огня.
И слово власти было на устах,
неотвратимое. И власть была
в движенье рук, запечатлевшем слово.
Он говорил. Он обращался к Ней.
Учтивость неба: он Ее назвал
по имени. Он окликал Ее
тем именем земным, которым мать
Ее звала, лелея в колыбели:
Мария! Так, как мы Ее зовем
в молитвах: Благодатная Мария!
Но странен слуху был той речи звук:
не лепет губ, и языка, и неба,
в котором столько влажности, не выдох
из глуби легких, кровяным теплом
согретых, и не шум из недр гортани, —
но так, как будто свет заговорил;
звучание без плоти и без крови,
легчайшее, каким звезда звезду
могла б окликнуть: «Радуйся, Мария!»
Звучала речь, как бы поющий свет:
«О Благодатная– Господь с Тобою —
между женами Ты благословенна».
Учтивость неба? Ум, осиль: Того,
Кто создал небеса. Коль эта весть
правдива, через Вестника Творец
приветствует творение. Ужель
вернулось время на заре времен
неоскверненной: миг, когда судил
Создатель о земле Своей: «Добро
Зело», – и ликовали звезды? Где ж
проклятие земле? Где, дочерь Евы?
И все легло на острие меча.
О, лезвие, что пронизало разум до
сердцевины. Ты, что призвана:
как знать, что это не соблазн? Как знать,
что это не зиянье древней бездны
безумит мысль? Что это не глумленье
из-за пределов мира, из-за грани
последнего запрета?
Сколько дев
языческих, в чьем девстве – пустота
безлюбия, на горделивых башнях
заждались гостя звездного, чтоб он
согрел их холод, женскую смесив
с огнем небесным кровь; из века в век
сидели по затворам Вавилона
служанки злого таинства, невесты
небытия; и молвилась молва
о высотах Ермонских, где сходили
для странных браков к дочерям людей
во славе неземные женихи,
премудрые, – и покарал потоп
их древний грех.
Но здесь – иная Дева,
в чьей чистоте – вся ревность всех пророков