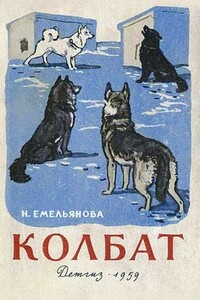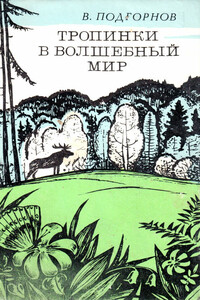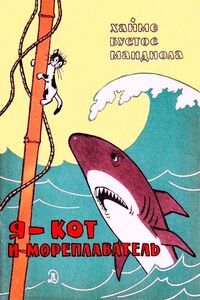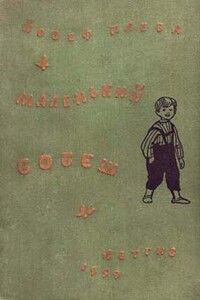Мой отец служил в конторе ткацкой фабрики Никитина в Замоскворечье. Улицы тогда в Москве были вымощены булыжником, и весной между камнями прорастала зелёная трава. Езда была небольшая, автомобилей в Москве совсем не было.
Широкие дворы почти сплошь были покрыты мелкой ромашкой, которая так сильно и приятно пахнет, если потереть ее в пальцах. Этот запах, как только я его вспомню, переносит меня в детские годы, на большой двор Никитинской фабрики.
Зеленая травка на этом дворе, правда, росла только у забора, вся середина двора была вытоптана: здесь каждый день проходили сотни рабочих.
Каждое утро по нашему двору в пролётке с откинутым верхом подъезжал к фабрике человек, которого отец называл «хозяин». Толстый кучер натягивал вожжи и круто осаживал рыжую лошадь с тонкими резвыми ногами. Хозяин, медлительный, грузный человек, выходил, накреняя пролётку на бок, и исчезал в тёмном отверстии раскрытой двери. Над дверью была железная вывеска с надписью: «Контора».
Всё это я стала понимать гораздо позднее. А в то время мне было всего три года. У меня была подружка Дуняша, девочка с толстенькой короткой косичкой, дочь ткача. Дуняша была вдвое старше меня, она часто приходила к нам.
Каждый раз, как только со скрипом растворялись широкие ворота фабрики и показывалась знакомая, подтянутая на вожжах лошадиная голова и круто изогнутая шея с длинной золотистой гривой, Дуняша подбегала к окну и говорила всегда одно и то же:
— Вон Микитин приехал!
Однажды тёплой весной мы с ней играли на дворе, около ворот. Дворник Данила быстро пробежал мимо меня открывать ворота.
— Ой! Микитин приехал! — испугалась Дуняша. Ты стой тут, а я побегу. Микитин — не дай бог с ним не поздороваться — заругает! — И убежала.
Пролётка остановилась у конторы. Лошадь жевала удила, влажные добрые губы её были приоткрыты, и по углам их висели клочья белой пены. Хозяин слез с пролётки и пошёл в дверь конторы.
Кучер отпустил вожжи, лошадь потянула голову вниз и переступила ногами. Одна передняя ее нога была плотно забинтована до колена. Я подошла поближе, голова лошади повернулась в мою сторону; круглые глаза смотрели на меня кротко и задумчиво.
Несомненно, это был кто-то очень добрый, и его хотелось погладить. Я подошла почти к самой морде, очень большой. Лошадь повела на меня светящимся глазом.
Тогда я вспомнила наставления Дуняши, подошла еще на шаг, на всякий случай поклонилась и сказала:
— Здравствуй, Микитин!
«Микитин» не заругался, может быть, потому, что с ним поздоровались, и посмотрел ещё добрей.
В это время сзади кто-то засмеялся, чьи-то руки подхватили меня подмышки и подняли высоко-высоко. Я обернулась и увидела очень близко весёлые голубые глаза отца и буйные его русые волосы надо лбом.
— Это разве Микитин? — сказал он, смеясь. — Микитин — это хозяин. И не Микитин, а Никитин. А это лошадка, хорошая, добрая…
Отец подошёл ближе к «Микитину», и я погладила его большую добрую морду.
Дедушка Никита Васильевич
Дуняша всё равно продолжала называть хозяина «Микитин», хотя теперь я уже хорошо знала, что надо говорить «Никитин».
Но вокруг меня были люди, которые называли хозяина так же, как Дуняша. Одного такого человека я очень любила. Это был «дедушка Никита Васильевич». Так его звала мама. А отец называл «дядя Никита». Сам он себя величал «Микита Васильевич».
Он был высокий, широкий в плечах, с большой русой бородой. В бороде его было уже много седины, а около носа на седоватых усах были жёлтые подпалины: дедушка Никита Васильевич нюхал табак.
На это бывало очень интересно смотреть. Он доставал из кармана маленькую чёрную табакерку с золотым цветочком наверху, щёлкал по ней сбоку пальцем и открывал крышку.
Потом двумя пальцами брал щепотку табаку и, наклонив голову набок, подносил табак сначала к одной ноздре и нюхал. Большой его красноватый нос морщился, и глаза прищуривались, он откидывал голову назад, лез в карман за платком и… чихал: «А-ап-чхи!»; развёртывал огромный красный, в клеточку платок, вытирал нос, бороду и глаза.
Потом закладывал ещё щепотку табаку в другую ноздрю. Дуняша говорила, что нос у Никиты Васильевича потому красный, что он выпивает, а я думала, что нос бывает красный, когда в него закладывают табак.
Дедушка Никита Васильевич всегда пил чай с блюдца, сахар откусывал крепкими желтоватыми зубами. Он брал меня к себе на колени, придерживая одной рукой, и говорил густым голосом, весёлыми, подобранными в рифму словами:
Скок-поскок, молодой дроздок,
По водичку пошёл, молодичку нашёл.
Молодиченька-невеличенька,
Сама с вершок.
Голова с горшок.
Рука у него была такая большая, что, когда он гладил меня по голове, рука сразу накрывала всю мою голову. Обыкновенно он приносил мне маковник или пряник, смотрел, как я ем, и приговаривал:
— Жуй, жуй бабками!..
Дедушка Никита Васильевич приходил к нам по воскресеньям. Он со своей женой и дочкой Варей жил на Пресне и всю неделю работал в бахромной мастерской на Садовой-Триумфальной. Теперь это площадь Маяковского, и здесь уже не найдёшь тех маленьких домиков, в которых работали тогда городские ремесленные люди.
Напротив фабрики Никитина, на углу улицы Щипок, всегда стоял продавец орехов. Тогда на улицах Москвы продавали орехи, яблоки, пряники с лотков. Лотки были длинные, деревянные. Продавцы носили их на голове, а чтобы лоток плотнее держался, подкладывали под него круглый, как баранка, свёрнутый жгутом платок.