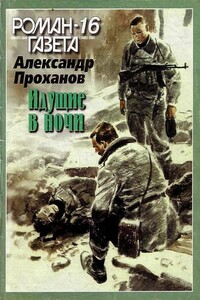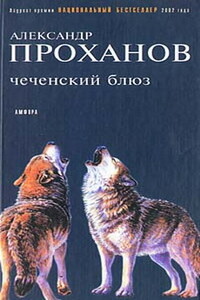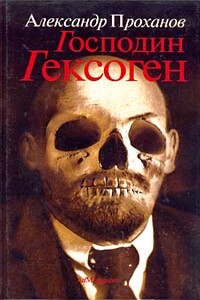Эта книга писалась в 1984 году, когда мне с войсками удалось побывать в Герате. Батальоны, продвигаясь в глинобитных теснинах, «чистили» мятежный район Деванчу. Тогда я видел «афганский процесс» с полкового командного пункта, расположенного на башне в центре Герата, из люка боевой машины пехоты, вставшей на «блоке» у старой мечети, сквозь блистер Ми-восьмого, подавляющего пулеметные гнезда в районе кладбища, в полевом лазарете, куда привозили убитых и раненых. Я написал, что видел, ни больше ни меньше. А видел я – ЭТО.
Смысл «афганской кампании», загадочной, трагичной, теперь уже для нас завершенной, будет постепенно открываться исследователям по мере того, как станут всплывать документы, свидетельства очевидцев, нетривиальные взгляды аналитиков – политологов и военных. Ее боль, драма, глубинное, захватывающее судьбы целого поколения движение станут длиться многие и многие годы.
Мне, если бог попустит, хочется вложить свою лепту в понимание этой войны. Хочется описать ее образы, ее героев и мучеников так, как они возникали передо мной во время последующих поездок в войска.
Тех троих в «бэтээре», которые, когда их машина застряла в «зеленке» и враги наступали и кончился боекомплект, – те трое застрелили себя. Ту мусульманскую свадьбу, где собрался душманский отряд, чествуя своего главаря, и вертолеты нанесли ракетный удар по этому отряду, по этой свадьбе, и было видно, как взрываются ковры, пиалы, падают убитые люди и лошади, а потом оказалось, что свадьбу играл не враждебный главарь, а другой, недавно перешедший на сторону власти, – лукавая разведка душманов перехитрила нашу, навела вертолеты на ложную цель. Яхочу описать заставу под Кандагаром, где земля была усеяна сплошь колючей сталью осколков, и подорвался рыжий голубоглазый сапер, и его мчала боевая машина пехоты через Кандагар, сквозь базары и толпища под вечерний крик муэдзина.
«Афганскую хронику», которую я замышляю, как и этот роман о Герате, я хочу посвятить всем, прошедшим Афганистан, – дошедшим и недошедшим. Воинам Армии, что, брошенная на перевалы, в пустыню, в ледники и тропики, в великом напряжении, своими малыми кровоточащими подразделениями поддерживала в течение десяти лет шаткий баланс сил между исламскими фундаменталистами и кабульским режимом, пытавшимся осуществить революцию.
Теперь, когда для нас война завершилась и множество обелисков с красной звездой усеяли кладбища в наших городах, деревнях и аулах, настало время думать, размышлять, понимать.
Кто там был, тот поймет.
А. ПРОХАНОВ
Бетонная дуга эстакады искрит, как сварка. Вспышки пролетных машин. Две встречные размытые дуги, гудящие, пульсирующие. Под мост, пропадая в туннеле, идет электричка. Вокзальная площадь, веер стальных путей, вонзившихся в сырые перроны. Черные сгустки толпы. Автобусы чадно и тяжко подруливают по дуге к остановкам. Блики солнца. Гаснущие траектории. Мелькание стекла и металла. Непрерывное кружение орбит.
«Москва атомарная, – думал Веретенов, глядя из окна мастерской на сложное, ускользающее от понимания движение. – Москва галактическая…»
Медленно поворачивался. Отрывал от окна опаленные зрелищем глаза. Останавливал их на стене. На квадратном пятне водянистого весеннего солнца. Пятно, размытое по краям, слабо перемещалось. Воспламеняло краски на висящих картинах.
В это время года пятно возникало рано, в дальнем углу, где скопились старые рамы, запыленные гипсы, остатки рассыпанных натюрмортов. Ползло по стене от картины к картине, накрывая холсты неярким бестелесным квадратом. И он, художник, по движению пятна угадывал время. Дорожил этим верным прибором, сочетавшим его мастерскую с движением светила по небу.
Первым всегда загорался маленький обшарпанный холст, сохранившийся с юности, когда он увлекался беспредметной живописью. Ему казался ложным, почти враждебным мир, расчлененный на бесчисленные реальные формы. Истина скрывалась от глаз, взятая в плен конкретной, имеющей имя натурой. И он стремился разрушить плен, пробиться к сокровенным энергиям, роднящим живое и мертвое, близкое и отдаленное, голубое и алое. Отыскивал во всем светоносную бесцветную суть. В его полотнах было много белизны: белые тени, белые лучи. От тех лет и исканий вместе с последним холстом осталась легкая тревога и сладость. Память о долгой бессоннице среди бесконечного дня. Холст – как оконце в архангельской горнице на негаснущее небо и озеро.
На второй, захваченной солнцем картине, был цех большого завода. Красное и черное. Вспышки угрюмого пламени. Окалина труб и балок. Гулы и звоны. Из слепой неодушевленной материи силой огня строился могучий ковчег. Нацелился в мир, где земля дымилась городами, океанам было тесно от покрывших их кораблей, небо затмили эскадрильи. В те годы он неутомимо и жадно рисовал механизмы. Расставлял свой этюдник на бетонных трассах, проносивших ревущие КрАЗы, на взлетных полях, поднимавших Илы и Ту, на портовых причалах и пирсах. По сей день в его мускулах живут сотрясения и гулы от бесчисленных работающих в мире моторов.
Третий холст был смуглой глянцевитой парсуной. Портрет молодой женщины, нежно выступавшей из мглы лунно-белым, чуть подернутым дымкой лицом. Полуоткрытая, стиснутая корсетом грудь. Длинная кисть руки, длинные усыпанные перстнями пальцы. И в окошке – деревья парка, пруд, беседка с колоннами. Застывшее, сохраненное в слабой улыбке мгновение. Туманное отражение в пруду. Эту парсуну неизвестного мастера он спас из огня, когда горел деревянный амбар, оставшийся от былого поместья. Обожженную, в лопнувших пузырях, он принес ее в мастерскую. Забросил свой этюдник, забыл о своем искусстве и несколько месяцев спасал искусство другого. Жертвовал собой для другого. И наградой ему был портрет. Была эта женственность. Неисчезающая молчаливая связь его, живого художника, со старинным, ему благодарным мастером.