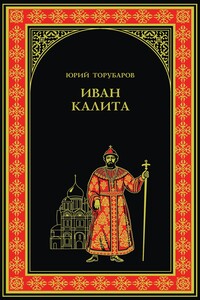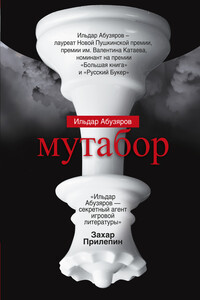Прежде чем перейти под контроль австралийской администрации, обитатели деревень, где свирепствовала (болезнь) куру, практиковали каннибализм. Съесть труп близкого родственника означало выразить ему свое почтение и любовь. Варили мясо, внутренности, мозг; истолченные кости подавали вместе с овощами. Женщины, надзиравшие за разделкой трупов и кулинарными операциями, оказывали этим мрачным трапезам особое предпочтение. Поэтому можно предположить, что они подцепляли болезнь при обработке зараженных мозгов, а затем, посредством физического контакта, заражали своих детей.
Клод Леви-Стросс, «Все мы каннибалы»
Настоящее дирижирует прошлым, словно музыкантами оркестра. ‹…› Поэтому прошлое кажется то ближе, то дальше. Оно то звучит, то умолкает. На настоящее воздействует лишь та часть прошлого, которая нужна, чтобы либо высветить это настоящее, либо затемнить его.
Итало Звево, «Самопознание Дзено»
Строить начали в сорок девятом, земля была мерзлая, киркой не зацепишь, и первой смене пришлось взрывать верхние слои грунта динамитом; одним из взрывов случайно вскрыли подземную линзу льда, древнюю реку, в которой были видны вмерзшие в полупрозрачную толщу рыбы и амфибии. Орех Иванович рассказывал, что при детонации по всей стройке разлетелись куски доисторического мяса, мужики собрали их, поджарили на костре и съели, ибо замерзшая во льдах плоть ихтиозавров прекрасно сохранилась. Эту историю Кира слушала, затаив дыхание, хотя и не верила до конца, ей казалось, учитель выдумывает или как минимум приукрашивает реальность, чтобы удержать внимание школьников, которые просто не будут слушать, если в рассказе нет динамита или динозавров. Орех Иванович никогда прямо не говорил, что первыми строителями были заключенные, но из его лекций было ясно, что покорять мерзлоту мужики приехали не по своей воле. Пайка не хватало, и, чтобы не умереть с голоду, рабочие стали ловить тритонов – ходили с ведрами и собирали их, как ягоды или грибы. «Тритонов здесь были тьмы. Особый вид – сибирские углозубы», – пояснял учитель. Уж если кто и заслуживает место на гербе нашего города, добавлял он, так это тритон и олень, потому что именно они – своим мясом и костями – спасли первую смену от смерти. Мужики быстро сообразили, что углозубы зимуют внутри сгнивших деревьев и в верхних слоях почвы, во мхах. Их то и дело находили при корчевании пней. Мяса там было всего ничего, поэтому их бросали в суп, «для бульона». И также с оленями – чуть на север была священная саамская земля, местные называли ее «рогатым кладбищем». Бог знает почему, но животные приходили туда умирать. Очень скоро мужики добыли лук и стрелы, – возможно, сделали сами, а может, обменяли у местных племен на пару динамитных шашек или просто украли, кто теперь скажет? – и иногда ходили к рогатому кладбищу, караулить оленей; затем разделывали тушу и шили из шкур обувь и одежду, а кости бросали в кипящую воду к тритонам и пили бульон.
Когда первая смена закончила работу и от Сулима в 56-м на восток потянулась железная дорога, мужики – те из них, кто ухитрился не умереть, – объявили углозубов и оленей своими тотемными животными. С тех пор хвостатый и рогатый считались покровителями города, и их изображения украшали герб и ворота ГОКа, а матери и бабушки вязали детям свитера с орнаментом в виде сплетенных вместе рептилий и оленьих рогов.
Тритоны были важной частью жизни для всех сулимчан, особенно для школьников. После уроков дети иногда от нечего делать шли в перелесок, раскапывали палками грунт вокруг деревьев и пней, находили углозубов, отогревали и вместе наблюдали за тем, как в теплых руках окоченевшая, неживая мелкая рептилия начинает дергать лапками, шевелиться, как раскрываются ее веки и оживают черные глаза – это было похоже на воскрешение из мертвых. Дети играли с ними, обменивались, давали имена и брали домой, а иногда рассказывали друг другу небылицы о песнях земноводных. Последними полнился детский фольклор. Осенью роза ветров менялась, и карьер начинал издавать звуки, похожие на тихое, многоголосое, тоскливое мычание – движение воздуха внутри его колоссальной архитектуры рождало странные ноты. Одни говорили, что это песни той самой первой смены рабочих – тех, кто не выжил, – их голоса застряли во времени, как рыбы в сети; другие твердили, что это тритоны поют голосами людей.
Однажды Кира тоже нашла углозуба внутри старого пня, завернула в платок, положила в карман и отнесла домой. Отогрела в ладонях, обустроила ему дом в обувной коробке, принесла коры и мха. Она назвала его Вадиком и иногда разговаривала с ним. Ей нравилось слушать, как он копошится, царапает картонное дно, пытается вырыть нору.
Вадик, впрочем, прожил у нее недолго. Пока она была в школе, мать зашла в комнату и заглянула в коробку. Вечером дома Киру ждал скандал. Мать редко ругалась, но если открывала рот, то так, что дрожали стены, а соседи закрывали уши своим детям. От криков матери Кира сама как будто превращалась в тритона – цепенела, замыкалась, проваливалась в себя; внутри все холодело, и у нее словно вышибало пробки в голове – защитная реакция. Мать замечала это и злилась еще сильнее: «Вот я пытаюсь тебе вдолбить тут, а у тебя взгляд стеклянный! Чего ты мертвую изображаешь?» Мать не была намеренно жестока, она просто все делала шумно и наотмашь – смеялась, говорила, воспитывала дочь.