Эйдельман одержим идеей. Одна-единственная, но неотступная мысль захватила его внезапно и полностью, нарушив размеренное течение спокойной и пресной жизни.
И вот Эйдельман с каменным лицом стоит прямо в центре растекающейся по полу лужи «спрайта». Рядом лежит перевернутая тележка. Штук двадцать двухлитровых пластиковых бутылок валяются вокруг — из них и сочится зеленоватая жидкость, сливаясь в большую лужу. Эйдельман это видит, но ему все равно — он погружен в раздумья.
Когда Майк, помощник управляющего магазина «A&P», где Эйдельман работает вот уже почти десять лет, тихонько трогает его за плечо, тот, пытаясь избавиться от наваждения, трясет головой, будто вымокший пес.
Эйдельман смотрит на широкую веснушчатую физиономию Майка. Покупатели тем временем снуют вокруг, толкая свои тележки мимо липкой лужи, и безуспешно стараются делать вид, что происходящее их абсолютно не интересует.
— Слушай, — говорит Майк, — может, тебе стоит сходить позавтракать? Ты как, вообще, нормально себя чувствуешь?
— Нормально, — отвечает Эйдельман. — Вполне.
— Ты все-таки пойди поешь, ладно?
— Ладно.
Эйдельман механически пожимает плечами и уходит, шлепая прямо по газированной луже, не замечая ее.
Эйдельман — крупный мужчина лет тридцати, рыхловатый, но не толстый. Прямые русые волосы безжизненно падают на лоб. Он не урод и не красавец. В его лице есть какая-то незавершенность, словно в куске мягкой глины, работу над которым скульптор бросил в тот самый миг, когда очертания только начали проявляться. Джинсы висят на нем мешком, а когда он поднимается по лестнице в столовую, каждый шаг сопровождается чмоканьем, напоминающим звук сочного поцелуя, — это чавкают его промокшие ботинки. Стоящий рядом с лужей Майк провожает его озадаченным взглядом. Из-за кассы, тревожно нахмурившись, за ним наблюдает Синди. Эйдельман не замечает устремленных на него взглядов.
Поднявшись в столовую, он не находит покоя и там. Некоторое время Эйдельман размышляет о череде неприятностей, преследующих его сегодня. Сначала он ухитрился уронить поднос с пончиками, затем наступил на буханку хлеба, а после разбил банку с какими-то соленьями. Все эти промахи совершенно для него не типичны, поскольку Эйдельман — человек очень добросовестный и аккуратный.
Одержимость ему не свойственна. Однако факт остается фактом: Эйдельман одержим навязчивой идеей с той самой минуты, когда проснулся в бледных предрассветных сумерках и так же ясно, как самого себя, осознал сущность машины, ее предназначение и цель. Он долго лежал, глядя через открытое окно на ветви дерева, чернеющие на фоне серого неба, размышлял об ответственности, которая обрушилась на него помимо его воли и согласия, и пытался представить, как это изменит его жизнь.
И вот сейчас, в столовой, Эйдельман изучает микроволновую печь, обдумывая, как можно было бы использовать ее детали для создания машины. Ничто не отвлекает его: ни вонь из мусорного ведра, которое он забыл вынести сегодня утром, ни беспрестанное гудение старой флуоресцентной лампы, ни тихое пофыркивание кофеварки.
Когда Синди заговаривает с ним, он испуганно вздрагивает и оборачивается. Она стоит в дверном проеме, засунув руки в карманы халата, и, недоуменно подняв брови, глядит на Эйдельмана. У Синди приятное, хоть и некрасивое лицо и темные, коротко остриженные волосы. Глаза у нее зеленые, как весенняя трава. Она не улыбается: ее зубы цветом и формой напоминают древние кости, искривленные от долгого пребывания в гробу. Эйдельман слышал однажды, как она говорила другой кассирше, что откладывает деньги на отбеливание и выпрямление зубов. Может быть, когда это произойдет, он наконец увидит ее улыбку.
Впрочем, он понимает, каково это — копить деньги, когда работаешь в маленьком продуктовом магазине.
— Что ты сказала? — переспрашивает Эйдельман. Его голос звучит хрипло и неуверенно, словно ему нечасто приходится вести беседу. В общем-то, так оно и есть.
— Я спрашиваю, что с тобой? — повторяет Синди.
Прежде чем он успевает ответить, она уже рядом, а ее прохладная ладонь — на его лбу.
— Жара вроде нет, — объявляет Синди, поджав губы. — Нет, правда, ты хорошо себя чувствуешь?
— Если честно, не очень. — Он на секунду встречается с ней взглядом и тут же отводит глаза, проникшись внезапным интересом к засиженным мухами квадратным плафонам на потолке.
Синди кивает:
— Так я и думала. Я сказала Майку, и он разрешил тебе уйти — работы сегодня немного.
— Да. Спасибо. Наверное, я так и сделаю.
— Ну ладно, поправляйся.
Когда Синди уже стоит на верхней ступеньке лестницы, Эйдельман произносит:
— Синди, будь осторожна завтра. С этим землетрясением.
— Эйдельман, никакого землетрясения не будет, — отзывается девушка. — Это же ясно.
— О! — только и произносит Эйдельман.
Он на это надеется. Очень надеется.
Он идет домой по улицам Стауз Конерс под сводчатыми куполами дубов и кленов, сквозь утреннее безмолвие маленького городка.
Тишину этого утра нарушают лишь лай собак да шелест прошлогодних листьев под колесами редких автомобилей. Словно в мире не осталось ничего, кроме Эйдельмана и залитой солнцем улицы. Вообще ничего. Но его это не беспокоит. Он привык к тишине, привык к молчанию. Вся его жизнь вписана в рамки тишины и одиночества: отец ушел и не вернулся, когда ему было девять, мать умерла, когда ему исполнилось двадцать четыре.



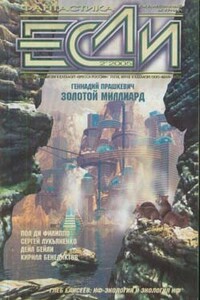
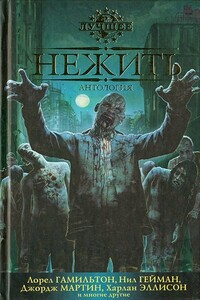
![Русская, советская, российская психология [Конспективное рассмотрение]](/storage/book-covers/e9/e920722c1dd3c791c3d721b761475bfdb1b777b8.jpg)


