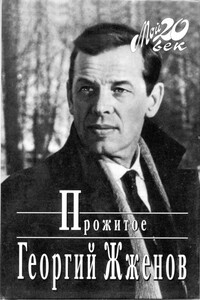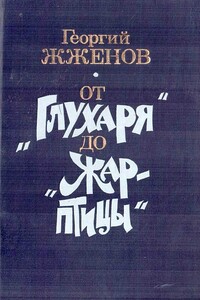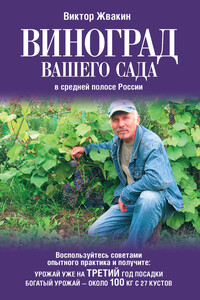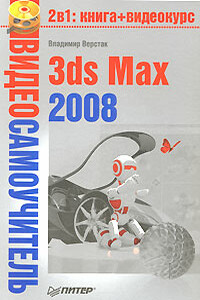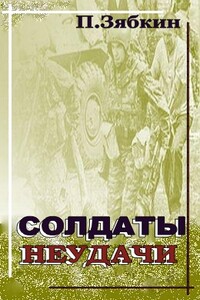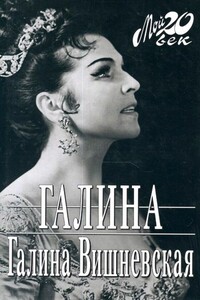До недавнего времени все, кого интересовало мое прошлое, при встречах на улицах, в театре, в поездах и самолетах, на творческих встречах и особенно в своих письмах мне, касаясь периода моей жизни на Севере, спрашивали: «Скажите, Георгий Степанович, вы поехали на Колыму и на Таймыр по комсомольской путевке?»
Потом — уже после публикации рассказа «Саночки» в журнале «Огонек» и книжки «Омчагская долина» — вопрос стал звучать иначе: «А за что вас посадили, Георгий Степанович?»
И хотя большинство спрашивавших не хуже меня знали, что репрессиям подвергались миллионы безвинных, мой ответ «Ни за что» никого не устраивал. В таких случаях мне говорили: «Вы нас не так поняли, мы верим, что вы не виноваты, что вы не враг народа… Но мы хотим знать конкретный повод, по которому из вас — двадцатидвухлетнего — состряпали «государственного преступника»! Что это было? Неосторожно оброненное слово, рассказанный анекдот, «опасное» знакомство, донос или что другое?..»
В предлагаемых читателю записках я пытаюсь извлечь из недр моего прошлого события более чем полувековой давности.
Пытаюсь воскресить, вытащить из архивов пережитого страницы жизни, давным-давно прочитанные, перевернутые быстро бегущим временем и похороненные в бездонных кладовых забвения…
Единственным и не всегда надежным помощником в этом мучительно трудном деле, затеянном мною на девятом десятке лет, является память.
Человеческая память — гигантский музей, хранящий в своих «запасниках» все не востребованное временем, все забытое!..
Никаких других источников, по которым я мог бы сверить собственную память с действительностью, с фактами чудовищного произвола властей, в моем распоряжении нет. И спросить некого…
Один за другим уходят из жизни последние свидетели — человек не вечен! Годы, проведенные в царстве ГУЛАГ, не способствуют долголетию… Среди товарищей по несчастью я был одним из самых молодых тогда.
До ареста дневников или записных книжек не вел. Всегда хотел, неоднократно давал себе обещания записывать самое интересное и существенное, даже начинал, но дальше начинаний, как правило, дело не шло — легкомысленно надеялся на свою молодую память.
Позже — в заключении, когда еще жива была надежда на возвращение, когда особенно хотелось запомнить все, что происходило со мной и вокруг меня, чтобы когда-нибудь на свободе рассказать обо всем людям, — вести дневниковые записи, а тем более хранить их было равносильно самоубийству.
В то время обнаруженный при обыске автомат, тайно хранимый заключенным, грозил бы последнему меньшей карой, нежели найденные при нем записи, сделанные за «колючей проволокой»…
В годы лагерного произвола увековеченных слов боялись больше, чем оружия. И не без основания: все беззакония всегда творились скрытно от народа! Тайну преступлений оберегают тщательно — нарушителей и свидетелей не щадят.
Итак, надежда только на собственную память…
Началом всех несчастий в нашей семье явился роковой декабрь 1934 года, когда был убит Сергей Миронович Киров.
В эти скорбные для ленинградцев дни университет, в числе других организаций и предприятий города, отдавал последний долг памяти партийному лидеру, тело которого было выставлено для прощания в Таврическом дворце, недалеко от Смольного.
Стояли сильные декабрьские морозы…
Мой брат Борис, студент механико-математического факультета университета, обратился к комсоргу своего курса с просьбой разрешить ему остаться. Показав на свои разбитые ботинки, он сказал: «Если я пойду в Таврический дворец, я обязательно обморожу ноги. Какой смысл? Кирову это не поможет».
Комсорг донес об этом в комитет комсомола университета, несколько извратив слова брата. В его редакции они выглядели так: «От того, что я пойду прощаться, Киров не воскреснет».
Последовало немедленное исключение его из университета. И как следствие этого — лишение прописки, то есть права жительства в городе Ленинграде.
Почти весь 1935 год брат обивал пороги Верховной прокуратуры СССР в Москве, протестуя против несправедливого исключения.
В конце концов его восстановили в правах студента, и он вернулся в Ленинград. А в декабре 1936-го почтальон принес повестку, обязывающую брата явиться в Управление НКВД на Литейном проспекте.
Несколько дней этот зловещий листок лежал на комоде, рождая в каждом из нас безотчетный страх и недобрые предчувствия, словно похоронка.
В назначенный в повестке день, 5 декабря (день сталинской Конституции!), Борис, не заходя в университет, ушел в «Большой дом». Домой он оттуда не вернулся никогда!
По неправедному приговору Ленинградского областного суда в мае 1937 года его осудили на семь лет за «антисоветскую деятельность».
Перед отправкой на этап нам с матерью было разрешено свидание с ним. Без жгучего стыда не могу вспоминать свое поведение в тот день.
В комнату свиданий, разделенную зарешеченным барьером, отделяющим заключенных от посетителей, ввели брата… Когда я взглянул в его лицо, за месяцы тюрьмы приобретшее характерный землистый цвет, в его внимательные, умные глаза, выражавшие одновременно и радость встречи, и притаившееся в глубине страдание, тщетно скрываемое им, меня вдруг захлестнула такая обжигающая душу жалость… Захотелось немедленно предпринять что-то… Утешить его, подбодрить, вселить надежду…