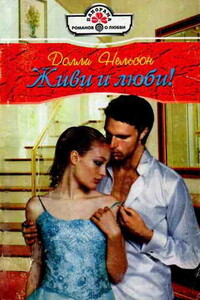Его проза не имеет ничего общего с развлекательностью. Вчитываясь в прямые и лаконичные строки, через определённое время начинаешь гадать о том, что перед тобой: документальная проза или философский трактат со случайными элементами беллетристики? У книг Солженицына нет случайного читателя, — барьер стиля подпускает к себе лишь проверенных временем и совестью, — именно совестью! — подвижников. Чтение страниц, вышедших из-под пера писателя, не отдых, а работа над собой.
Биография Солженицына — одна из тех закрытых биографий XX века, которые требуют нетрадиционного подхода исследователей, во избежании откопать вместо Трои никому не знакомый град.
Прежде всего, необходимо уяснить: кто же перед нами — подвижник или богоискатель? Ищущий правду, или же там, где лучше?
Из множества публикаций последнего десятилетия, прочитанных мной, даже однозначно положительных, вырисовывается образ лукавого правдолюбца, хотя правда и лукавство — вещи несовместные. Зависть ли это, проступающая в попытках объективной критики, непонимание, неприятие ли позиции и духовного строя писателя? Думается, ближе к истине здесь второе.
Не кривя душой и не ища дифирамбов можно смело определить Солженицына в жанровом плане, как публициста. Вся его проза, от начала до конца, тяготеет к документализму. Под тонким шоколадным слоем художественности сама жизнь, где поэзия не только отступает и неуместна, но и самоубийственна. Как художественную литературу читать его вещи тяжело. Художник Михаил Шемякин, в своё время также высланный за рубеж, описывая чтение книги «Архипелаг ГУЛАГ», обронил: «Как будто душу прополоскали в ведре с кровью». За книгами Солженицына не отдохнёшь. Он и сам своё творчество определяет как выплату духовного долга за отмеренный ему, несмотря на гибельные повороты судьбы, срок жизни.
Что же, такая позиция, на фоне морального перерождения России с ужасающими потерями в духовном плане, необходима, как никогда раньше. Новый Толстой или Достоевский — вот тот якорь, который удержит её от крушения.
На исходе истерзанный век. То там, то здесь вспыхивают войны. Кажется, за последние годы не было ни одного дня, чтобы где-то не лилась невинная кровь. Что же это, откуда прёт непрекращающееся зверство? На фоне сегодняшних ужасов, вроде бы и не слышны ни звуки лиры, ни слабый голос русского интеллигента, призывающий хранить любовь к родине и Богу. Приглядишься к нынешнему существованию соотечественников и поймёшь: народ на грани истерики. Ещё немного, кровавые слёзы потекут, а там недолго и до бунта, бессмысленного и, опять-таки, кровавого. Да где уж там до смысла, когда всё одно — погибать! Так хоть не на печи…
Протест человека в тоталитарной России. Что значит он для личности и общества? Этим вопросом задавались и Белинский, и Герцен, и Чернышевский, да и вся мыслящая классика русской литературы. Значит ли он что-либо в мировой истории, или же это глас вопиющего в пустыне?
Во все времена на Руси «протестанты» допротестовывались до трёх вещей — до плахи, сумасшедшего дома или каторги. Идущий за правду знал заранее об уготованной ему участи Христа. Отсюда вывод: терять протестующему уже было нечего, оставалось лишь выбрать форму почётного самоубийства.
Именно в такую ситуацию был вовлечён Александр Исаевич, говоря о себе позже народным изречением: «угодило зёрнышко промеж двух жерновов», а отнюдь не ранним: «бодался телёнок с дубом». Не телёнок он был, да и до бодания дело не дошло, как в хрущёвскую «оттепель», так и при смене её брежневским режимом.
Да, из зажатого, забитого, запуганного, по существу, лагерной системой, человека, втайне лелеющего мысль изобличить своих палачей, двенадцать лет выростал, возрождался человек осторожный, но бесстрашный. Хотя все человеческие страхи остались при нём.
Перелистываю самиздатовский сборник семидесятых: «…Уже до донышка доходит, уже всеобщая духовная гибель насунулась на всех нас, и физическая вот-вот запылает и сожжёт и нас, и наших детей, а мы по-прежнему всё улыбаемся трусливо и лепечем косноязычно: — А чем мы помешаем? У нас нет сил!..» Александр Солженицын, программная вещь: «Жить не по лжи». Поколения современной русской демократии выросли на этих строчках, заучивая вхруст слова, дышащие свободой. Выходит, ещё тогда знали, предвидели, идущие прахом, благие начинания? Отчего же соломки не постелили? Или её не хватило?
Идеалист, раз и навсегда уверовавший в неизбежную победу добра, «светоносец», как называла его Анна Ахматова, Солженицын пришёл в литературу с чёрного хода, как бы обосновывая афоризм, что великий человек — это мученик, оставшийся в живых. Первые его литературные творения — письма к другу во время Великой Отечественной войны, тщательно изучаемые особистами. За них он и получил первый срок по пятьдесят второй статье, ибо писал о происходящем, не кривя душой.
После реабилитации в пятьдесят третьем году — дебют у Твардовского в «Новом мире». Положительные рецензии на рассказ «Матрёнин двор», оторопь критиков после повести «Один день Ивана Денисовича», вобравшей в себя горечь и стужу сталинских лагерей.