Документ word (без номера)
Держаться трудно. Одна босая ступня – на крышке бачка унитаза, на полиэтиленовой пленке, опасно скользящей по белому фаянсу. Пальцы другой – словно пуанты – на остром ребре ступеньки сложенной стремянки. В узком пространстве между унитазом и стеной расставить лесенку невозможно, но зато, заткнутая между ними, она представляет почти надежную опору.
Обмакнув кисть в ведерко, проволочная ручка которого красным рубцом прорезала нежную кожу левого предплечья, сливочно-белого, усыпанного мелкой россыпью снежных веснушек – засохших и засыхающих брызг водоэмульсионной краски, – правой рукой я тянусь к потолку. Краска стекает на запястье упругими холодными струйками, попадает в глаза, и все же над головой, на поверхности, так тщательно мною отскобленной, зашпаклеванной и ошкуренной, но все еще хранящей серо-рыжий узор плесневого гриба, возросшего на влаге протечек, – на поверхности почти не достижимого для меня потолка появляется светлое пятно.
Пока оно еще серовато-мутное, а вовсе не ослепительно-белое, как обещает этикетка на ведерке с краской, но я знаю: это победа. К утру все просохнет, и сияющая белизна потолка и стен – до ночи я должна успеть и успею – воцарится и в туалете, и в ванной.
Я рассматриваю пятно и шевелю затекшими пальцами той ноги, что опирается на лестницу. Самое главное – сохранять равновесие. Приходится сильнее сжать левую руку, в которую врезается ведерко, – ведь ею я цепляюсь за выступ стены в том месте, где проходит граница кафельной плитки. Еще один мазок, столь же удачный. Кисть легко ходит над головой. Ржавые разводы исчезают.
Я задыхаюсь. Тяжелые пары краски пахнут формалином и тленом. В глазах плывет, и тело, напряженное, распятое в воздухе над унитазом, затекло в неподвижности.
Сердце. Одна экстрасистола, другая. Дорожка. Все? Слезать, вызывать «скорую»? Спокойней. Спокойней… Нет, ритм, кажется, восстанавливается. Продолжу. Отдыхать бесполезно – только навалится еще большая усталость, придавит серым камнем, и тогда уж не встать. А кто ремонт будет доделывать? Пушкин? Времени нет. Нет времени. И я снова поднимаю к потолку руку с кистью.
Ну, кончено. Теперь стены. Можно спуститься на бачок обеими ногами. Так, отлично. Окаменевшие на стремянке пальцы-пуанты распрямляются и ноют – болезненно, наконец блаженно. Ведро можно уже взять за ручку, ведь держаться за стену не нужно, и я растираю глубокую синюю борозду на предплечье. Она становится фиолетовой, потом малиновой. Прекрасно. Стены – это уже легче.
И вот – слезы. Ручьем, горячим потоком, как в юности. Ну что ты. Не надо. Перестань, милая. Тебе ли не знать: бесполезно. Глупо. В сортире. Невидимые миру слезы в сортире. Не смешно. Жалеть себя – нашла время. И место. Никто не увидит. А увидит – так не поможет. Знаешь ведь, знаешь. Только глаза опухнут – сильней, чем от краски. И главное – побереги сердце.
Ну, дождалась. Опять бьется. Сильно и быстро. А ноет тихо. Спускайся, сядь. Ничего, что прямо на унитаз, на полиэтилен, заляпанный свежей краской. Какая разница. Какая теперь разница?
Господи Боже. Неужто конец? Сейчас, в сортире, среди всего этого? И не увижусь ни с кем?
А с кем? С сыном? С мужем? С так называемыми друзьями? С теми, кто загнал тебя сюда? «Ведь каждый, кто любимым был, любимых убивал…» Милый, наивный Оскар. Бедняга. Знал ведь, что каждый скажет, найдя меня здесь.
А каждый скажет: сама виновата. Нечего было затевать этот дурацкий ремонт, кому он нужен. Съездила бы лучше в Грецию отдохнуть на пару недель. Как, со мной? Нет, я не могу. Сейчас никак. Ну, никак. Давай на следующий год! На следующий смогу, обязательно. Ну конечно. Или в Рим. Лучше в Рим. Через год съездим вместе в Рим. А пока одна поезжай, лучше в Грецию. Ты о ней всю жизнь читала. Вот и увидишь – своими глазами. А я – нет. Я не могу. Занят, именно сейчас занят.
Да, так скажет каждый из них – и сын, и муж, и любая подруга. А друзей у меня нет.
Жаль. Не того жаль, что умру в сортире. Что никого не увижу. Нет, не этого. А жаль, что никто не узнает, что такое была моя жизнь. И что такое была я. И вообще – как все это было.
А кому это надо? Кому интересно? Да, пожалуй, никому. Если уж живая – никому, то post mortem…
Нет, ты не права. Сама виновата – да, согласна. Только в другом. Зачем все скрыла? Зачем всю жизнь себя от всех скрывала?
Выживу – напишу. Все напишу, подробно. А умру?
Так, признавайся. Сама себе признавайся. Настало время. Ты только что говорила – времени нет. Есть. Вот оно. Пришло время.
Мертвая? Живая? Не важно. Ты не сможешь ничего рассказать даже живая. Ни слова. Ты раба, а потому бессловесна.
Потому что сама себя задавила. Застегнула цепочку с амулетом из красного сердолика – камня со странной надписью… Хранил он меня? Погубил ли? Заперла, словно надела рабский ошейник, своей рукой повернула ключ – или запаяла, не знаю, как у них там делали. Вот этой рукой, на которой алеет сейчас борозда от ведерка с краской.
Рабы молчаливы. Говорят свободные.
Ну что ж. Так и будет Ты, рабыня слова, одно сделать смогла и успела – сына своего вырастила свободным. И передала его, свободного, своему властелину. Божественному Логосу, летучему духу, что витает где хочет.
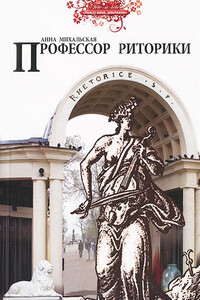

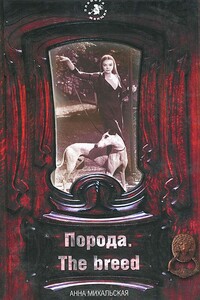
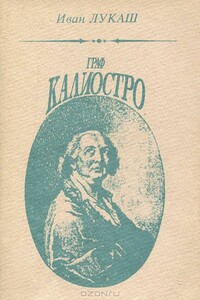

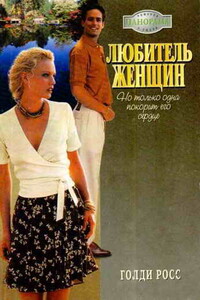
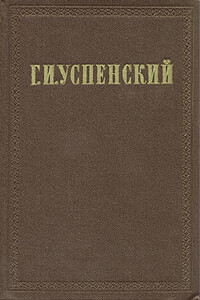




![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)
