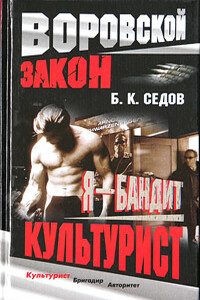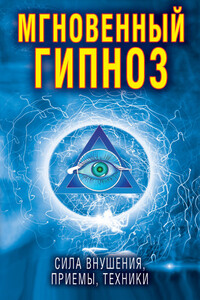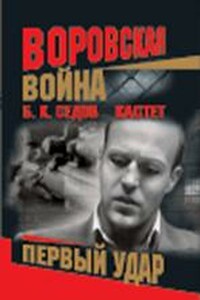Муфтий Хаким аль-Басри, имам Большой Соборной мечети Берлина, разбирал накопившуюся за неделю почту. Рядом, отвлекая взор и мысли, стоял послушник Фадлуллах, исполнявший ту часть секретарских обязанностей, что была связана с перепиской.
Прежний имам, Зейд аль-Модар, был излишне привязан к этому курдскому отроку, чем вызывал недовольство старейшин, но они терпеливо сносили увлечение имама мусульманскими юношами, считаясь с его преклонными летами и древностью рода. Однако, когда Зейд аль-Модар зачастил к воротам американского посольства и визиты его совпадали с дежурством некоего морского пехотинца по имени Пол Вашингтон, который был к тому же афроамериканцем, терпению старейшин пришел конец.
Обращаясь с просьбой прислать им нового имама, старейшины ставили только два условия – чтобы тот был сведущ в богословии и женолюбив.
Муфтий Хаким отвечал этим условиям с лихвой – окончил каирский университет «Аль-Азхар», получил степень доктора богословия с правом вынесения решения – фетвы. Был молод и, как правоверный мусульманин, женат, причем вторую жену, четырнадцатилетнюю Фатиму, взял перед самым отъездом в Берлин и потому чаще думал о ней, нежели о насущных делах своей разноплеменной паствы. Но старейшин общины это устраивало больше, чем страсть прежнего имама к двухметровому негру.
Муфтий Хаким только что вернулся из недельной поездки по Восточным землям – территории бывшей ГДР, куда после разрушения Берлинской стены устремились тысячи предприимчивых турок, которых ожидало глубокое разочарование. Работы в Восточных землях не было, тысячи немцев жили на пособие и никто не горел желанием приютить гортанных смуглолицых переселенцев, обремененных женами, детьми и демонстрировавших полнейшее незнание немецкого языка.
Поездка выдалась неудачной.
Турки, которых аль-Басри в глубине души считал не вполне мусульманами, или, в лучшем случае, мусульманами второго сорта, совсем не интересовались Аллахом, им даже не нужна была работа, они просили только денег. А денег у муфтия не было…
Хуже всего было то, что прежний имам подобные проблемы решал с легкостью. За долгие годы, проведенные в Германии, он перезнакомился с бургомистрами крупнейших городов, несколько раз выступал в бундестаге и, говорят, был на дружеской ноге с канцлером Колем.
Мусульмане Германии становились реальной политической силой, с которой нельзя было не считаться, а во главе этой силы стоял старый педераст Зейд аль-Модар. Но теперь, слава Аллаху, аль-Модара не стало, пришел новый, молодой, неопытный имам, и с ним еще предстояло найти общий язык.
К вечеру второго дня муфтий уже устал от говорливых турок, настойчиво совавших ему в лицо пухлых слюнявых младенцев с хитрыми глазами, достойных сниматься в любой рекламе детского питания. Однако младенцы должны были свидетельствовать о голоде, который поразил детей и их увешанных золотом матерей и отцов, чьи носы иногда терялись в обилии щек.
«Хлеба!» – многоголосо вопили папаши-турки, потрясая упитанными чадами, подразумевая под хлебом, видимо, говяжью вырезку и мясо белорыбицы, и в глазах их читалось отчаянное желание праздности и изобилия.
Иншаллах! – неоднократно вздыхал в течение дня муфтий Хаким, а, вернувшись в гостиницу, усердно молился, ловя себя на том, что все чаще обращается мыслью не к Великому и Всемогущему, а к юной Фатиме, ждущей его в купленном на общинные деньги особняке на окраине Берлина.
И вот теперь, вместо того, чтобы удалиться в женскую часть квартиры, привычно именуемую гаремом, имам читал обстоятельные служебные записки, присланные городскими службами. Были среди них и просьбы о помощи от вдов, сирот и многодетных матерей, иногда даже иудейского вероисповедания, а также масса других, совсем ему не интересных бумаг, чтение которых было одной из обременительных обязанностей имама Большой Соборной мечети.
Груда конвертов на большом серебряном подносе в руках Фадлуллаха не уменьшалась…
– Что ты сказал, Фадлуллах? – спросил муфтий.
– Ничего, господин, – раболепно склонился послушник, – я только хотел узнать, будет ли господин читать завтра проповедь или доверит это одному из своих недостойных слуг?
– Конечно, я сам прочитаю проповедь, завтра великий день – годовщина открытия мечети и ровно месяц, как я стал ее имамом.
Муфтий Хаким поднялся со своего места, незаметно потянулся, разминая затекшие от долгого сидения мышцы, и подошел к окну.
Отсюда, из окна кабинета, был виден солидный, послевоенной постройки дом, где снимали квартиры только достойные уважения бюргеры – адвокаты, зубные врачи и банковские служащие. Окна в доме были темны, лишь в одной квартире третьего этажа, той, чьи окна смотрели на мечеть, горел неяркий свет.
К сожалению, из кабинета муфтия был виден только угол мечети с дверью служебного входа, используемого для разного рода технических надобностей. Отчего-то в представлении правоверных служение Аллаху не предполагало собственными силами содержать Его Дом в надлежащем состоянии, и потому сантехниками, водопроводчиками и слесарями в мечети работали немцы.
Вид мечети всегда радовал Хасана, а из окон женской половины она была видна вся – и украшенный голубыми изразцами вход, где арабской вязью запечатлены бессмертные слова Великого и Всемогущего, и кованая решетка – дар шейхов Омана берлинской общине, и даже стоящий чуть поодаль минарет, откуда муэдзины сзывали верующих к молитве.