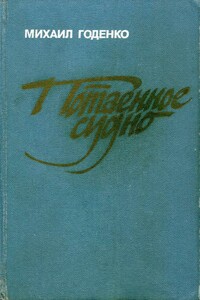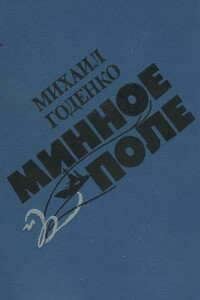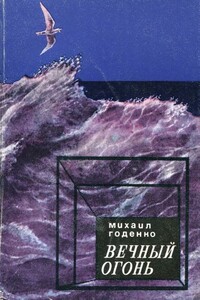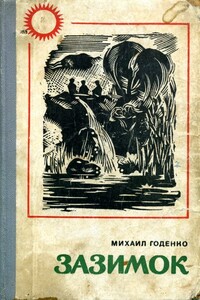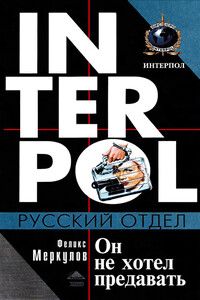На выезде из слободы, справа от дороги, столбом стоит каменная баба. Безволосая, сцепила темные руки на животе, строго поджала тонкие губы, недобро глядит на свет выпученными глазами.
По левую сторону невысокий земляной вал, которым обнесено подворье Охрима Балябы. На подворье — саманная, длинно вытянутая хата. Под одной черепичной крышей размещено все: и жилье, и кухня, и кладовая, и сарай, и курятник. Стоит хата торцом к улице, смотрит на закат двумя подслеповатыми оконцами.
Во дворе особого достатка не заметно. Тут самое необходимое: колодец с ореховой крутилкой, погреб с окованными дверьми, летняя плита с дощатым навесом, защищающим ее от дождя и солнца. Слева, ближе к вишеннику, малая скирда соломы и стожок сена. Стог ровно такой, которого внатяжку хватает корове до рождества. Ну а после она и соломе бывает рада. В углу двора возвышается саж — деревянный свинарник. Стоит он на четырех крупных камнях, словно мир на китах.
У этого свинарника все и началось.
Охрим Баляба сбил на затылок соломенную шляпу-брыль, вытер темные, рыжевато-деготного оттенка усы, поплевал на руки, взялся за оглобли, выкатил из-за сарая старую одноконную жалобно повизгивающую бричку, кинул в нее охапку соломы, скомандовал жене и восьмилетнему сыну:
— Ну, гайда! Собирайтесь!
— Добре, добре, — отозвалась жинка, — мы свое знаем. А ты хоть бы колеса помазал — визжат, как голодные поросята.
— Зараз я их накормлю! — согласился Охрим.
Только было разыскал в сарае дегтярницу, только вынул чеку переднего колеса, как вдруг услышал хрипловатый, по-бабьи высокий мужской голос:
— Далеко ли собрался, зятюшка?
Охрим коротко, вполглаза посмотрел на тестя и вызывающе улыбнулся:
— В райские кущи!
Хутор и в самом деле был чем-то похож на библейское место. Если встать лицом прямо на полдень, его можно увидеть отсюда, с балябинского подворья. Вон он, поднимается среди желтоватой тусклой степи стеной осокорей, голубеет в знойной дымке, словно заманчивый оазис в пустыне. Когда-то хутором владели паны — братья Гонька и Северин. После них хозяином был немец-колонист Гейдрих. И вот совет бедноты постановил на своем собрании: дать Гейдриху отставку, а хутор отписать в безвозмездное пользование недавно организованной коммуне, которая нарекла себя звучным именем: «Пропаганда».
— Угу… Так-так. — Тесть снял меховую шапку-кабардинку, вытер потную лысину широким рукавом сорочки, сшитой из домотканины. — Далеко!.. Гляди, не заплутай в дороге.
— А я крывулять непривыкший. Держу всегда прямо, — с вызовом ответил Охрим.
— Всяко бывает… — Тесть потер чисто выбритый подбородок, погладил низко свисающие седые запорожские усы. — Значит, в коммуну? Значит, и тебя распропагандировали?
— Выходит, так!.. — И тут же совершенно иным, прямо-таки домашним тоном попросил: — А ну, тато, подсобите! — И слегка приподнял передок брички.
Яков Калистратович Таран, тесть Охрима Балябы, взялся обеими руками за рассохшееся колесо, осторожно сдвинул его на самый край оси. Охрим сначала обмакнул квач в деготь, затем потыкал им в ось. Жидкий деготь струйкой потек на землю. Яков Калистратович притворно удивился:
— Разве же это деготь, это чай! Мабуть, керосином разбавил? Вот хозяин! Вы все такие собираетесь в коммуне? До чего ж ваша бричка докатится?
Со стороны послушать, слова покажутся обидными. Но никакой обиды пока ни зять, ни тесть друг на друга не держали. Разговор протекал мирно, без накала. Может быть, где-то в самой глубине их существ уже и нарастало раздражение, но пока оно не давало себя знать.
Уже были вынесены из хаты все узлы, кинуты рогачи и веники в короб брички. Уже шаткий некрашеный стол лег выскобленной столешницей на соломенную подстилку подводы, весело задрав кверху свои четыре давно не мытые ноги. Уже охомутали мышастого Орлика, взятого на время из коммунского двора, подали его задом в оглобли. Уже корова красной породы, носящая песенную кличку Мрия, была привязана к задку брички. Уже Настя, жена Охрима Балябы, дочь Тарана, успела расчесать густую чуприну сына Антона, успела снять с себя платок, отряхнуть его от пыли и заново покрыть им голову. Словом, все было готово к тому, чтобы хозяину сесть в передок, взять в руки вожжи и, окинув последним взглядом родное подворье, сказать, отправляясь в неведомую дорогу:
— На все лучшее!
Но тут Охрим вспомнил:
— Вот это да! А порося и забыли!
Он вынул из-под узлов мешок, подошел к свинарнику, приоткрыл крышку, что над корытом, подозвал поросенка: «Це-це-це!» Почесал ему за ухом, поросенок от удовольствия прямо-таки ввалился в корыто-кормушку. Охрим взял его за переднюю ножку, выволок на волю, сунул в мешок.
— Вот и все!
— Ни, так не буде! — Таран подошел вплотную. Розовые щеки налились сизоватой мутностью. — Это я внуку подарил в день его ангела. — Он кивнул в сторону Антона, который уже успел взобраться на бричку и устроиться между ножками стола. — Коммунариям свой подарок отдавать неготовый.
Охрим спросил довольно ровным голосом:
— Вы, тату, которым шляхом сюда пришли?
— Известно, которым! Прямиком, через огороды.
— Таким же манером и отправлю до дому, если будете встревать куда не следует.