1
Пошло швырять по России своенравного Пашуту, крепко замотало.
В Москве, бывшей белокаменной, а ныне сплошь перепаханной суперпроспектами, занедужил он сердцем и бежал из неё, как бегут бедовые мужики из родного дома, впопыхах, в лютую стужу, шапку забыв прихватить.
Трясся на верхней полке, поскрипывал зубами на стыках. Перемогался до утра. Поезд шёл в Прибалтику. Когда совсем тяжко стало лежать, соскользнул вниз, ловко попал босыми ногами в башмаки, двинул в тамбур пососать ночную сигарету.
Проводница в своём купе дремала, уткнувшись головой в столик, руками прикрыла затылок, будто защищаясь на всякий случай от удара. Пашутин воспалённый взгляд разбудил её. Подняла унылое лицо: чего, мол, тебе?
— Можно и вместе покурить, — предложил Пашута.
— Чего, не спится?
Он тут же втиснулся в купейный закуток, опустился на боковой стульчик.
— Красивая вы женщина, — улыбнулся Пашута. — А вот как вас звать, не знаю.
Проводница небрежно провела рукой по волосам, реденьким, спутанным. Красоты ей природа отпустила немного, зато и возраст у неё был неопределённый: то ли двадцать, то ли сорок лет, нипочём не угадаешь. Глаза блеклые, навыкате, чудные. Однако после Пашутиного комплимента лицо её заметно смягчилось и подобрело.
— Настасьей меня зовут… А чего ж это вам не спится?
— Павел Данилович Кирша, — солидно представился Пашута. — Не спится мне, Настя, потому как боюсь Страшный суд проспать. Чую, он не за горами.
— Что ж, грехов наделали много?
Пашута зажёг спичку, задымил «Явой».
— Не то чтоб слишком много, а покаяться пора. Покаяние каждому человеку на пользу. Особенно мужику. Он ведь как живёт? Там сироту невзначай обидел, там женщину понапрасну растревожил. Такое со всяким бывает. А на суде разбираться не станут, на то он и Страшный.
Пашута глядел на проводницу весело, открыто, со значением, и та под его взглядом вовсе оттаяла.
— Так вы говорите, будто в бога верите.
— В кого же ещё верить иначе? Хотя его и нету по данным науки, а всё же — опора. Вы, Настя, замужем находитесь или как?
— А то вы холостой?
— То есть не то чтобы холостой, а прямо до смерти одинокий.
— Ой ли!
В их ночную беседу вкрался намёк на возможное озорство, и Пашута поспешил перестроиться, дабы не вводить расхрабрившуюся женщину в искушение.
— На лечение еду, — поделился обречённо. — Врачи сказали, одно спасение: подышать напоследок чистым морским воздухом. Иначе — каюк!
— А с виду будто здоровый мужчина.
— Вид обманчив. Бодрюсь. Внутри всё сгнило. Оттого и одинок. Как близкие проведали, что мне вскорости кранты, так и отвернулись. Кому охота жить с доходягой. Я их не виню. У тебя-то хоть, Настя, муж здоровый?
— Как тебе сказать, Павел Данилович. У меня своя беда. Я его, почитай, трезвым и не вижу. Поди узнай, здоровый он или больной… Тебе, может, чайку скипятить?
Она предложила чайку с таким выражением, что, дескать, почему и не посочувствовать, коли человеку неможется. Но не так была проста проводница, чтобы поверить в роковую болезнь пассажира. Уж больно настырный. Мужскую силу она, слава богу, чувствовать умеет, её не проведёшь. Но что за дело. Желает прикинуться больным, пусть его. Человек, видно, ласковый, разговорчивый. Всё же развлечение ей в предутренней скуке. А там, глядишь, и оздоровеет вмиг, когда…
Всю эту чехарду рассуждений Пашута легко прочитал на нехитром лице проводницы.
— Спасибо за заботу, Настя. Не до чая нынче. Думы спать мешают. Хотя и на лечение еду, а путёвки у меня нету. Вот и интересуюсь, у тебя адресочка какого не найдётся в Риге, где бы можно пристроиться на первое время? Или в гостинице, может, блат? Без блату сейчас куда сунешься, верно?
«Ишь ты! — подумала проводница. — Адресочек!»
— Да как же ты, милый человек, решился ехать безо всякой договорённости?
Пашута усмехнулся:
— Не в лес поехал. Везде люди живут… А так-то ты права, Настя. Сызмалу не умел наперёд заглядывать. Оттого и падал больно… Что ж, нет адреска и не надо, не пропаду. А и пропаду, печалиться некому.
— Зачем же так, — проводница уловила в голосе ночного гостя истинную боль. — Малость могу тебе поспособствовать… На хуторе у меня двоюродный брат живёт. Приютить, пожалуй, сможет… Но это от Риги полтораста километров.
— Что за хутор?
— Места дивные, — оживилась Настя. — Приволье, сосны. Сумеешь ли только брату понравиться? Он у меня, правду сказать, одичалый. Не всякого примет.
— Меня примет, — уверил Пашута. — Я человек смирный, работящий, тем более одной ногой в могиле.
С рекомендательной запиской, нацарапанной несвычной к письму женской рукой, посмеиваясь, вернулся Пашута в купе. От сердца маленько отлегло. «Ничего, — думал, — прокантуюсь». У него с собой триста рублей с копейками, при умном расходе это немалые деньги. Да и не в деньгах дело. Весна скоро. Сорок вторая его весна на земле. А он, оборвав концы, с лёгким сердцем начинает по жизни новый виток. Если кто и ждёт его в Москве, то уж не дождётся никогда. Это одно знал твёрдо.
Из дома Пашута ушёл красиво. Вильямине, Вильке, гусар-девице, с которой год пробыл в любви и согласии, на прощание намекнул:
— Мне с тобой, Виля, хорошо, но больше мы вместе жить, конечно, не можем. Уезжаю надолго, но не навсегда. Ты пока оглядись. Пристроишься, даст бог, к кому-нибудь.
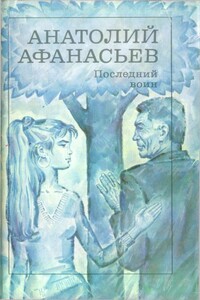
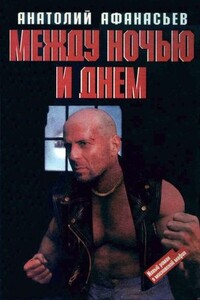

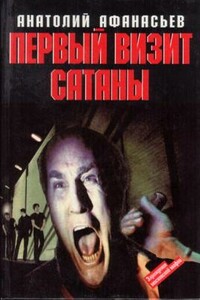

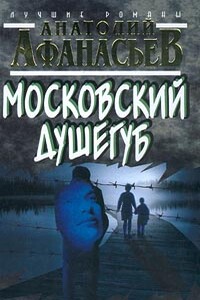
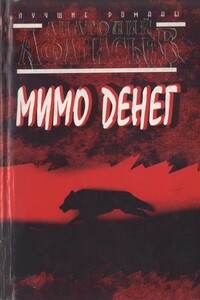





![Песнь в мире тишины [Авторский сборник]](/storage/book-covers/be/be2723eec8d85dc3b97a39d8364c2aa9175ec9cf.jpg)



