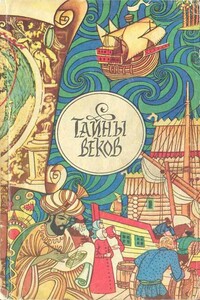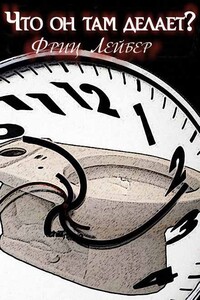Натяжение нитей ослабло, и две марионетки бесшумно упали на пол.
— Мрачновато получается, — сказал кукловод, задумчиво глядя куда-то сквозь режиссера.
В пустом зале они были вдвоем. Кукловод и режиссер.
— Но я специально хотел выделить эти нити. Как символ взаимосвязи событий и персонажей.
— Вот как раз эти нити и производят столь тягостное впечатление, — не сдавался кукловод.
— Нет, вы должны понять, — заволновался режиссер. Был он молод. Скорей всего, это был его первый самостоятельный спектакль, — эти нити как символ чего-то светлого тянутся куда-то вверх к тому, что их там объединяет.
— Возможно, возможно, — задумчиво отозвался кукловод, — но в то же время эти нити сковывают, связывают персонажей и, одновременно перепутываясь, сами порождают путаницу и взаимонепонимание, ведут к саморазрушению и гибели, обрываясь и лишая ваших персонажей этой последней поддержки — этих персонифицированных иллюзий.
— Вот видите, — обрадовался режиссер, — значит, вы поняли, что я хотел этим сказать: люди сами разрушают те светлые нити, что их связывают.
— Но в вашей трактовке действуют не люди, а… марионетки какие-то. Эти нити сами запутываются и рвутся, а куклы — словно их жертвы.
— Ну я не понимаю, как вы не понимаете… — в конец запутался режиссер.
— По-моему, в жизни человек решает все сам, никто его не тянет за веревочку, — обиделся кукловод.
— А долг, морально-этические нормы, память в конце концов, встрепенулся режиссер.
— Ну разве что память, — обмяк кукловод.
Натяжение нитей ослабло, и две марионетки бесшумно упали на пол.
Утром, когда он прозвучал в первый раз, никто не обратил на него внимания. Днем он повторился, но те, кто его услышал, не придали этому никакого значения.
Вечером он прозвучал в третий раз.
А ночью из города ушли все мальчики. Все до единого: от только начавших ходить до достигших той зыбкой границы, переходя которую, мальчик становится мужчиной.
Ушли все! Город опустел, словно выпотрошенная куриная тушка.
Ветер беззлобно гнал по пустынной улице обрывки газет, измятые бумажные стаканчики…
Город словно вымер, хотя там еще оставались люди.
Город затаился и ждал, но люди знали, что ожидание напрасно. Не было отчаянья и безумных попыток что-либо исправить. Была лишь печаль и покорность.
В предрассветной промозглой мгле смутно вырисовывались громады многоэтажных бетонных коробок, тупо пялящихся слепыми черными провалами окон на пустынные улицы. Света нигде не зажигали. А в каждом провале можно было угадать одну или две тени, застывшие в безмолвном ожидании. Безмолвном и бессмысленном.
Одинокий уличный пес, устало дотрусив до центральной площади города, сел и, запрокинув голову, завыл…
И город ответил ему жутким многоголосым воем.
И вспыхнул свет в окнах, и распахнулись двери, и люди высыпали на улицу…
Но было поздно.
3. ПЛАМЯ, КОТОРОЕ НАС ПОЖИРАЕТ…
Ненавижу! И город этот, и дома его, и улицы…
Ненавижу грязные вонючие подъезды, превращающиеся по ночам в бездонные клоаки.
Ненавижу окна, внезапно вспыхивающие в темноте и гаснущие в самое неподходящее время, словно скабрезно подмигивающие из мрака злые глаза.
Ненавижу асфальт, засохшей коркой покрывающий изгаженную землю.
Ненавижу хилые палисаднички, фиговыми листками приютившиеся на уродливом урбанистком теле.
Ненавижу память! Память, которая связывает меня с этим городом.
Ненавижу потому, что пуповина зависимости, петлей захлестнувшая горло, безнадежно крепка…
Ненавижу себя!
За бессилие и боязнь.
За тупость и безысходность.
За ненависть.
За…
Человек, одиноко бредший по пустынной улице, сделал еще несколько шагов и упал, уткнувшись лицом в растрескавшуюся черную кожу асфальта…
И тонкий заячий всхлип взметнулся и захлебнувшись утонул в нарастающем реве огня…
Внезапно вспыхнувшие в семи местах гигантские пожары почти мгновенно превратили город в бушующее огненное море. Огонь, урча, давясь и захлебываясь, пожирал деревья, пластик, материю и плоть, камни, бетон, металл и землю, безумным зверем набрасываясь на любую добычу…
И когда человек с трудом приподнял отяжелевшую, словно наполненную ртутью голову и посмотрел вокруг, то увидел… лишь пепел…
Кругом один только пепел…
И тогда человек наконец заплакал.