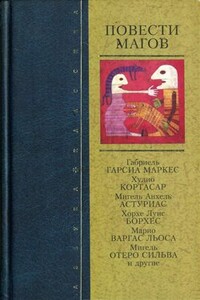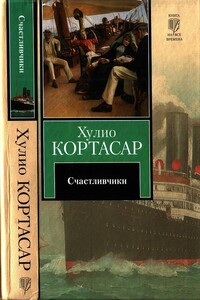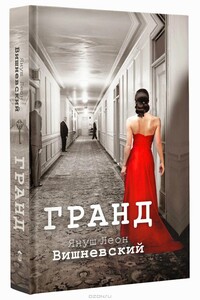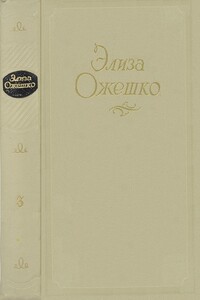Хорошо еще, что это был Рамос, а не какой-нибудь другой врач, мы с ним давно договорились, и я знал, когда настанет мой час, он мне об этом скажет или, по крайней мере, даст понять, не говоря всего. Ему, бедняге, трудновато пришлось, пятнадцать лет дружбы, и ночи за покером, и выходные за городом, и такое сказать, это всегда проблема; но что поделаешь, в час истины между мужчинами это стоит большего, чем утешительная ложь, приукрашенная, как таблетки с глазурью или как та розовая жидкость, которую мне капля за каплей вводят в вену.
Три или четыре дня, он не говорил мне, но я понял, он позаботится о том, чтобы не было ничего такого, что обычно называют агонией, и что мне не дадут умереть как собаке, зачем такое; я могу ему доверять, последние таблетки будут, как всегда, или зеленые, или красные, но внутри совсем другое, великий сон, за что я благодарен ему заранее, и Рамос стоит в ногах моей кровати и смотрит на меня, немного растерянный, что пришлось выложить мне правду, ничего, старина. Не говори Лилиане, она станет плакать раньше, чем нужно, как ты считаешь. А вот Альфредо скажи, Альфредо можешь сказать, чтобы он отпросился с работы и побыл с Лилианой и мамой. Че, и скажи сиделке, чтобы она не доставала меня, когда я пишу, это единственное, что помогает мне забыть о боли, кроме твоей изумительной фармакопеи[1], разумеется. Да, и чтобы мне приносили кофе, когда я прошу, уж очень строгие порядки в этой больнице.
Это правда: когда я пишу, я хоть ненадолго успокаиваюсь; наверно, поэтому приговоренные к смерти оставили после себя такое множество писем, я теперь это понимаю. Кроме того, мне нравится видеть написанным то, что существует только в моем воображении, от чего сжимается горло и невозможно удержаться от слез; сквозь слова я вижу себя другим, о чем хочу, о том и думаю, а потом записываю так, как вижу, это все издержки писательской профессии, а может, уже размягчение мозгов. Я прерываюсь, только когда приходит Лилиана, с остальными я менее любезен, поскольку они считают, что мне вредно много говорить, я предоставляю им возможность самим рассказать, холодно ли сегодня на улице и кто победит на выборах — Никсон или Макговерн[2], не выпуская из рук карандаша, пусть себе разговаривают, а Альфредо даже замечает это, он говорит, делай, что хочешь, продолжай писать, будто его тут вообще нету, и вообще, у него газета, так что он еще посидит. Но моя жена такого не заслуживает, ее я выслушиваю и улыбаюсь ей, и боль отступает, и мне нравится, когда она чмокает меня в щеку снова и снова, чуть влажными губами, хотя с каждым днем я все больше устаю, когда меня бреют, должно быть, я царапаю ей губы щетиной, бедняжка моя дорогая. Надо сказать, мужество Лилианы — мое главное утешение; стоит мне представить, что она увидит меня мертвым, как последние силы покидают меня и я едва могу говорить с ней и отвечать на ее поцелуи, поэтому, как только она уходит и начинается обычная рутина, состоящая из уколов и приторных утешений, я снова берусь за перо. Никому не позволено соваться в мою тетрадь, я знаю, что могу спокойно держать ее под подушкой или в ящике тумбочки, это моя прихоть, доктор Рамос велит оставить меня в покое, конечно, надо оставить его в покое, беднягу, это его отвлекает.
Значит, в понедельник или во вторник, а местечко в склепе в среду или в четверг. В самую жару в Чакарите, как в печке, ребятам нелегко придется, я так и вижу Пинчо в двубортном пиджаке с накладными плечами, над которыми всегда подшучивал Акоста, но ему самому придется одеться, как подобает, чтобы проводить меня в последний путь, ковбой в пиджаке и галстуке, на это стоит посмотреть. И Фернандито, вся наша троица в полном составе, ну и конечно, Рамос, до самого конца, и Альфредо, который держит под руку Лилиану и маму и плачет вместе с ними. И все это искренне, я же знаю, как они меня любят, как им будет меня не хватать; все будет не так, как было, когда мы хоронили толстяка Тресу, тогда была просто дружеская обязанность, несколько совместно проведенных отпусков, быстренько покончить с выполнением последнего долга, чтобы снова вернуться к обычной жизни и все забыть. Конечно, у всех будет волчий аппетит, в особенности у Акосты, насчет пожрать его никому не обскакать; и хотя у всех душа будет болеть и все будут проклинать нелепую судьбу — умереть таким молодым, в расцвете сил, — произойдет то, что всем нам хорошо знакомо, такое облегчение сесть после похорон в автобус или в машину и вернуться домой, принять душ, закусить с удовольствием, одновременно чувствуя угрызения совести, но как тут не чувствовать голод после такого изнурительного дня, после запаха погребальных венков и бесконечных сигарет и долгой пешей прогулки и некоего смутного ощущения, будто ты поквитался с судьбой, которое все мы чувствуем в подобные моменты и которое я не стану отрицать, если не хочу лицемерить. Приятно подумать о том, как Фернандито, Пинчо и Акоста вместе отправятся в какую-нибудь закусочную, наверняка отправятся, ведь мы так и сделали после толстяка Тресы, друзьям нужно побыть вместе, осушить литр вина и закусить потрохами; черт возьми, я так и вижу их: Фернандито первый отпустит какую-нибудь шуточку и тут же прикусит себе язык с помощью доброй половины куска колбасы, запоздало раскаиваясь, Акоста посмотрит на него исподлобья, но Пинчо не выдержит и рассмеется, потому что удержаться невозможно, и тогда Акоста, само послушание Господне, скажет, что не следует показывать дурной пример мальчишкам, а потом и сам рассмеется, прежде чем ухватиться за сигарету. И они будут долго говорить обо мне, у каждого много найдется что вспомнить за то время, что мы четверо жили одной жизнью, конечно, были и провалы, периоды жизни, когда мы не были все вместе, и об этом могут вспомнить, например, Акоста или Пинчо, за столько-то лет мало ли что могло случиться — и ссоры, и любовные делишки, но что там говорить, своя компания. А потом им будет трудно расстаться после этих посиделок, потому что вернется другое и надо будет идти домой, последний, окончательный момент невозвратного прощания. Для Альфредо все будет по-другому, и не потому, что он не из нашей компании, наоборот, Альфредо придется заниматься Лилианой и мамой, а этого ни Акоста и никто другой сделать не смогут, с каждым из друзей жизнь вырабатывает особенные взаимоотношения, все пойдут домой, но Альфредо — другое дело, его близость с нашей семьей мне всегда была приятна, он с удовольствием, подолгу разговаривал с мамой о цветах и лекарствах, водил Почо в зоопарк или в цирк, всегда готовый к услугам холостяк, коробка с пирожными и партия в карты, когда маме нездоровится, его робкая и явная симпатия к Лилиане, всем друзьям друг, которому придется в эти дни сдерживать слезы, скорее всего, он отвезет Почо к себе на дачу и тут же вернется, чтобы быть с мамой и Лилианой до последнего. В конце концов ему придется взять на себя роль «мужчины в доме» и вынести все трудности, начиная с организации похорон, ведь мой старик разъезжает сейчас где-то по Мексике или Панаме, и кто его знает, успеет ли он прибыть вовремя, чтобы вытерпеть одиннадцатичасовое солнце в Чакарите, бедняга, именно Альфредо поведет Лилиану, не думаю, что маме позволят пойти, Лилиана под руку с ним, и он чувствует, как она дрожит, так же как дрожит он сам, и он шепчет ей на ухо все то, что я шептал жене толстяка Тресы, обязательная и бесполезная риторика — не утешение, не ложь и даже не подходящие случаю фразы, — просто ты здесь, и этого достаточно.