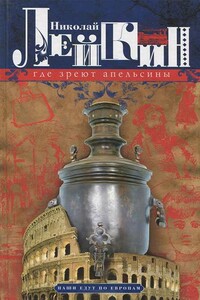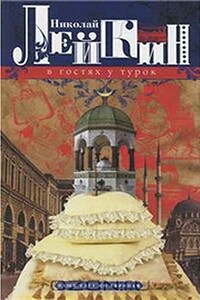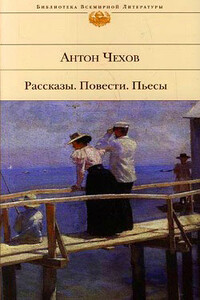По большой конференц-зале Академии наук, где выставлены картины товарищества передвижных художественных выставок, двигаются пестрые группы обозревателей, останавливаются перед особенно выдающимися и вслух делают друг другу замечания о впечатлениях. У некоторых невольно раздаются восклицания. Нигде нет такой смеси сословий, состояний, возрастов, как на картинных выставках. Тут встречается и священник, попадается и монах в нарядной шелковой рясе; дутые сапоги со скрипом, принадлежащие какому-нибудь синему кафтану со сборами, пропахшему деревянным маслом, стоят около раздушенного пачулей генеральского мундира. И кафтан заговаривает с мундиром, и мундир отвечает ему. Иногда люди вслух рассказывают о том, чего совсем не понимают, и доходят до абсурда.
Перед картиной Васнецова «После побоища Игоря Святославовича с половцами» особенное многолюдие. На картине изображены разлагающиеся трупы русских воинов в кольчугах и голые половцы с чубами на подбритых головах, а над ними носятся орлы.
— Ваше превосходительство, это литовское разорение разрисовано?
— Нет, это поле битвы русских с варварами, с дикими кочевниками.
— А я думал, Литва. Кто же тут кого: мы ихних или они наших?
— И тем, и другим досталось.
— У нас мастеровой один был с Литвы, так по постам скоромь трескал. А то, может статься, это татарва некрещеная? Головобритие-то вот…
— Нет, это половцы.
— Половцы. Скажи на милость, какой народ есть! Вон бонба валяется.
— Это не бомба, а шлем. Тогда артиллерии не было. Стреляли из луков стрелами. Вот на первом плане юноша, поверженный стрелой. Видите, стрела из груди торчит.
— Так, так… Бонбы не было. А мы вот колесы по нашей части к лафетам делали, так антелерист сказывал, что бонба с монаха пошла. Первый монах выпалил, а за ним уж и все остальные начали палить.
— Да, порох действительно изобрел монах.
— То-то и мы так слышали. Видно уж, сатана его на это попутал, а то монаху, кажись бы, в книжку читать… Сколько через этот порох несчастиев-то! И что же теперича этот вьюноша со стрелой в груди — святой угодник?
К разговору прислушивается сибирка и отвечает:
— Да нешто святого угодника будет дикий вран клевать, а вон над ним вран носится.
— Это не вран, а ястреб, — возражает кафтан. — Нешто враны такие бывают? Враны черные и маленькие, а это серый.
— И ястреб клевать не станет. Смотри, Дарья Петровна, даже в драку промеж себя птицы-то. Да что ты отвернулась?
— Не могу я на мертвечину смотреть, — дает ответ женщина. — И что это за выставка! Пошли смотреть для плезиру, а взаместо того одни мертвые виды. То турка скореженный от убийства, то женщина мертвая…
— Ну, пойдем портреты, смотреть. Эво, какой сидит! Словно живой.
— Это кто же в живом-то виде? С кого писано?
— Портрет Эн-Эн, — читает в каталоге длиннополый сюртук.
— Ну, так я и знала, что немец.
— А может быть, и русский? На лбу не написано.
— А как же немецкая-то фамилия?
— Да Эн-Эн не фамилия, а так — метка: «узнавай, мол, сам, кто я…» Вот у этого старичка есть фамилия. «Этюд». Должно быть, француз. Кажись, за Невской заставой какой-то Этюд тафту французскую ткал. Фабрика у него была.
— Такой оборванный-то да фабрикант?
— А может, теперь уже обанкрутился, так за неволю оборвался. Богатство, матушка, как к человеку приходит, так и уходит. Сегодня на брюхе шелк, а завтра в брюхе щелк. А вот еще портрет: дама под вуалью.
— Зачем же она под вуалью? Уж сниматься, так при всех своих улыбках.
— А может быть, у ней муж ревнивый, так без вуали-то да при улыбках и не позволил сняться. «Не хочу, мол, чтоб на твое голое лицо всякий буркулы пялил».
— Это не для того, — поясняет священник. — А просто художник хотел показать избыток своего искусства.
— Какое же тут, ваше преподобие, особенное искусство? Взял да и замалевал лицо.
— В том-то и дело, что тут лицо не замалевано, а проскваживает сквозь тюль. Это труднее изобразить.
— Никакого тут труда нет, кто что умеет. Живописец, так он тебе и под вуалью, и за занавеской даму изобразит. Ну, пойдем дальше, Дарья Петровна. Вот к будущей выставке я найму вывесочника хорошего и велю тебя так написать, чтоб ты тулупом закрытая сидела, — подшутил длиннополый сюртук, повел жену и остановился перед картиной Литовченка с изображением старика. — «Ставка проиграна», — прочел он в каталоге.
— Это картежник, что ли? — спросила жена.
— Действительно, надо полагать, что картежник. Играл в стуколку, а его король-бланк и нарезал, водовоз воду и заставил возить.
— И ништо! Вот и ты тоже сколько на этого водовоза деньжищ в стуколку просолил.
— На что же ходить-то после этого, коли на короля-бланк не ходить? Козырной выстилки ждать, что ли?
— Я никогда на него не хожу. Два маленьких козыря — пойду.
— Так ведь ты баба, у тебя и игра бабья, а тут мужчина. Вот дура-то!
— Да об чем ты споришь? Может быть, он и не в стуколку проигрался, а в мушку.
— И в мушку мужчинская игра супротив бабьей — какое сравнение! Ну, ничего, кафтан у него важный, заложить жиду, так, может быть, и отыграется. Пойдем.
Перед картиной Васнецова «Ковер-самолет» длинный и тощий гувернер в золотом пенсне объясняет двум нарядным мальчикам лет десяти: