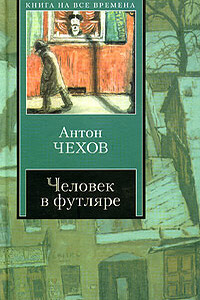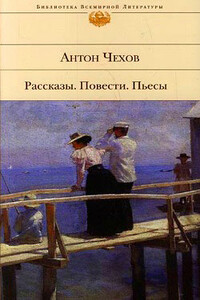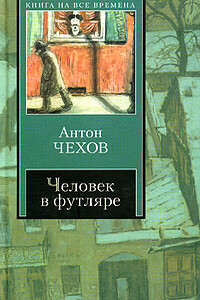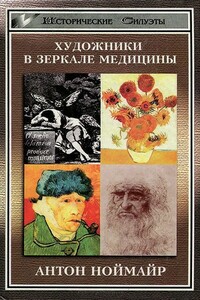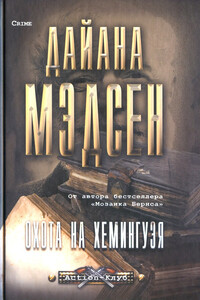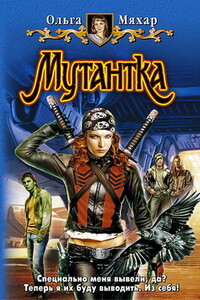Жмухин, Иван Абрамыч, отставной казачий офицер, служивший когда-то на Кавказе, а теперь проживающий у себя на хуторе, бывший когда-то молодым, здоровым, сильным, а теперь старый, сухой и сутулый, с мохнатыми бровями и с седыми, зеленоватыми усами, — как-то в жаркий летний день возвращался из города к себе на хутор. В городе он говел и писал у нотариуса завещание (недели две назад с ним приключился легкий удар), и теперь в вагоне все время, пока он ехал, его не покидали грустные, серьезные мысли о близкой смерти, о суете сует, о бренности всего земного. На станции Провалье, — а такая есть на Донецкой дороге, — в его вагон вошел белокурый господин, средних лет, пухлый, с поношенным портфелем, и сел против. Разговорились.
— Да-с, — говорил Иван Абрамыч, задумчиво глядя в окно. — Жениться никогда не поздно. Я сам женился, когда мне было сорок восемь лет, говорили — поздно, а вышло не поздно и не рано, а так, лучше бы вовсе не жениться. Жена скоро прискучает всякому, да не всякий правду скажет, потому что, знаете ли, несчастной семейной жизни стыдятся и скрывают ее. Иной около жены — «Маня, Маня», а если бы его воля, то он бы эту Маню в мешок да в воду. С женой скука, одна глупость. Да и с детьми не лучше, смею вас уверить. У меня их двое, подлецов. Учить их тут в степи негде, отдать в Новочеркасск в ученье — денег нет, и живут они тут, как волчата. Того и гляди, зарежут кого на дороге.
Белокурый господин слушал внимательно, отвечал на вопросы негромко и кратко и, по-видимому, был тихого, скромного нрава. Он назвался частным поверенным и сказал, что едет в деревню Дюевку по делу.
— Да ведь это в девяти верстах от меня, господи ты боже мой! — сказал Жмухин таким тоном, как будто с ним спорили. — Но позвольте, на станции вы теперь не найдете лошадей. По-моему, для вас самое лучшее, знаете ли, сейчас поехать ко мне, у меня переночуете, знаете ли, а утром и поедете на моих лошадях, с богом.
Частный поверенный подумал и согласился.
Когда приехали на станцию, солнце уже стояло низко над степью. Всю дорогу от станции до хутора молчали: говорить мешала тряская езда. Тарантас прыгал, визжал и, казалось, рыдал, точно его прыжки причинили ему сильную боль, и частный поверенный, которому было очень неудобно сидеть, с тоской посматривал вперед: не видать ли хутора. Проехали верст восемь, и вдали показался невысокий дом и двор, обнесенный забором из темного плитняка; крыша на доме зеленая, штукатурка облупилась, а окна маленькие, узенькие, точно прищуренные глаза. Хутор стоял на припеке, и нигде кругом не было видно ни воды, ни деревьев. Назывался он у соседей-помещиков и у мужиков «Печенегов хутор». Много лег назад какой-то проезжий землемер, ночевавший на хуторе, проговорил всю ночь с Иваном Абрамычем, остался недоволен и утром, уезжая, сказал ему сурово: «Вы, сударь мой, печенег!» Отсюда и пошло «Печенегов хутор», и это прозвище еще более укрепилось, когда дети Жмухина подросли и стали совершать набеги на соседние сады и бахчи. А самого Ивана Абрамыча звали «знаете ли», так как он говорил обыкновенно очень много и часто употреблял это «знаете ли».
Во дворе около сарая стояли сыновья Жмухина: один лет 19-ти, другой — подросток, оба босые, без шапок; и как раз в то время, когда тарантас въезжал во двор, младший высоко подбросил курицу, которая закудахтала и полетела, описывая в воздухе дугу; старший выстрелил из ружья, и курица, убитая, ударилась о землю.
— Это мои учатся стрелять влёт, — сказал Жмухин.
В сенях приехавших встретила женщина, маленькая, худенькая, с бледным лицом, еще молодая и красивая; по платью ее можно было принять за прислугу.
— А это, позвольте представить, — сказал Жмухин, — мать моих сукиных сынов. Ну, Любовь Осиповна, — обратился он к ней, — поворачивайся, мать, угощай гостя. Ужинать давай! Живо!
Дом состоял из двух половин; в одной была «зала» и рядом с ней спальня старика Жмухина — комнаты душные, с низкими потолками и со множеством мух и ос, а в другой была кухня, в которой стряпали, стирали, кормили работников; здесь же под скамьями сидели на яйцах гусыни и индейки, и здесь же находились постели Любови Осиповны и ее обоих сыновей. Мебель в зале была некрашеная, срубленная, очевидно, плотником; на стенах висели ружья, ягдташи, нагайки, и вся эта старая дрянь давно уже заржавела и казалась серой от пыли. Ни одной картины, в углу темная доска, которая когда-то была иконой.
Молодая баба, хохлушка, накрыла на стол и подала ветчину, потом борщ. Гость отказался от водки и стал есть только хлеб и огурцы.
— А ветчинки что ж? — спросил Жмухин.
— Благодарю, не ем, — ответил гость. — Я вообще не ем мяса.
— Почему так?
— Я вегетарианец. Убивать животных — это противно моим убеждениям.
Жмухин подумал минуту и потом сказал медленно, со вздохом:
— Да… Так… В городе я тоже видел одного, который не ест мяса. Это теперь такая вера пошла. Что ж? Это хорошо. Не все же резать и стрелять, знаете ли, надо когда-нибудь и угомониться, дать покой и тварям. Грех убивать, грех, — что и говорить. Иной раз подстрелишь зайца, ранишь его в ногу, а он кричит, словно ребенок. Значит, больно!