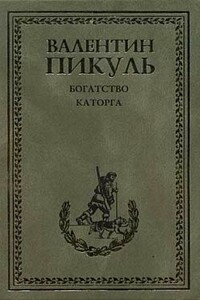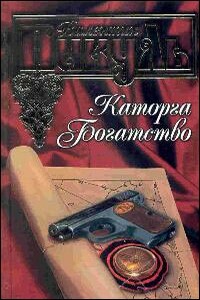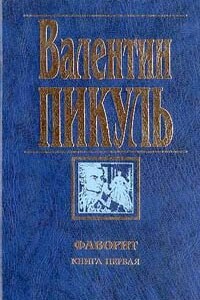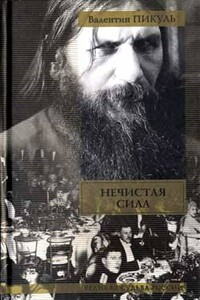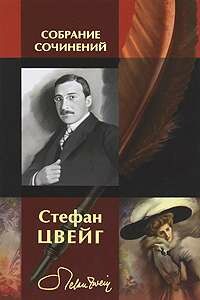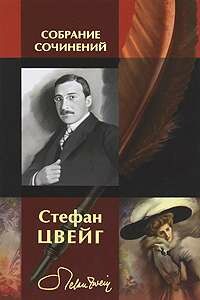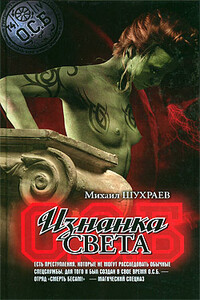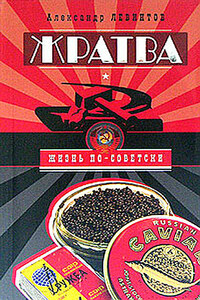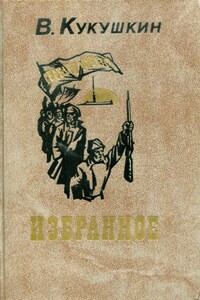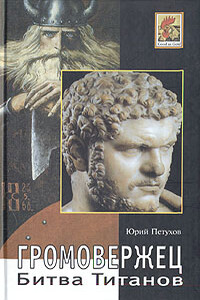Смолоду я питал почтение к академику Якову Карловичу Гроту, о котором сегодня и хочу рассказать…
Первая встреча с ним произошла еще в юности, когда я самоучкой постигал историю Финляндии, пытался переводить стихи Ленрота и Рунеберга, – именно тогда мне открылся тот мир, почти сказочный, что был отражен Гротом в его обширной книге «Из скандинавского и финского мира». Время постепенно уничтожило во мне старые интересы, оно же породило и новые – опять мне помог Яков Карлович с его работами по истории нашего государства, что так пригодилось потом при написании романа из эпохи «екатеринианства». Наконец, я с трепетом беру с полок увесистые тома – фундаментальные комментарии Грота к сочинениям Гаврилы Державина; вот изданная им переписка Екатерины II с бароном Гриммом, ценнейший источник по истории культуры, вот письма Ломоносова и Сумарокова к Ивану Шувалову… всего мне не перечислить!
Иногда я думаю: как один человек, никем не подгоняемый, достаточно обеспеченный, не раз отвлекаемый службою, успел так много сделать? Почему мы, беззаботно болтающие и постыдно хвастающие своими мнимыми успехами, разучились работать?
Так пусть эта миниатюра станет скромной данью благодарности к человеку, о котором у нас не принято вспоминать…
После семилетней войны приехал к нам из Голштинии лютеранский пастор Иоахим Грот и стал называться Ефимом Христиановичем; отнесемся к нему с должным уважением, ибо этот пастор учредил первое в России «Общество страхования жизни», а с церковной кафедры он громил родителей, которые не желали делать прививки от оспы своим детишкам.
Ефим Грот и был родным дедом нашего академика.
Яков Грот родился в снежную зиму 1812 года, когда русская армия завершила изгнание полчищ Наполеона; отец его, финансист, был знатоком языков, а мать, Каролина Ивановна Цизмер, немка происхождением, но отчаянная русофилка, любила русский народ даже за его недостатки; чтобы дети ее от колыбели прониклись «русским духом», она окружила их русскими няньками, а немецкий и французский они осваивали на слух – с разговоров родичей. Отец умер, когда Яше было четыре года; он очень любил мать и, если она засыпала, силился открыть ей глаза, громко плача:
– Мамочка, открой глазки – не умирай…
Вторая любовь – к животным, собакам и кошкам, «и я, – писал Грот в старости, – испытал это удовольствие во всей полноте… я живо и нежно сочувствовал всякому страданию, а воспоминание об этой детской симпатии до сих пор отзывается в моей душе любовью к животным…» Мать его, молодая вдова, как-то встретила в Летнем саду императора Александра I:
– Ваше величество, вы, наверное, помните моего покойного мужа, что был вызываем во дворец, дабы вы, еще ребенок, скорее освоили немецкое произношение. Так устройте будущее его бедных сироток, век стану Бога за вас молить…
Десяти лет от роду Яша попал в пансион Царскосельского лицея, а потом был зачислен и в Лицей, еще живший памятью пушкинской юности. Любовь к поэзии среди лицеистов была всеобщей, а классные сочинения писались даже в стихах… Грот никогда не забывал встречу с великим поэтом, который однажды посетил обитель своей поэтической молодости. Лицеисты окружали Пушкина гурьбой. Грот, застенчивый по природе, был безжалостно оттиснут от поэта, у которого «на лестнице оборвалась штрипка, он отстегнул ее и бросил на пол… я завладел этой драгоценностью», – вспоминал потом Яков Карлович.
За время учебы в Лицее он самостоятельно изучил итальянский язык, считался лучшим на курсе «латинистом». Из своих скудных средств мальчик купил лексикон Кронберга, басни Крылова и географию Патунина – ими и наслаждался. О будущем и чинах он не думал, об этом позаботились другие. Когда Лицей посетил князь Виктор Кочубей, важная персона, он спросил – кто из лицеистов годен в чиновники Комитета Министров, и тут профессор истории Шульгин сразу назвал Грота.
– Хорошо, – сказал Кочубей, – я буду о нем помнить…
В 1832 году Грот закончил Лицей с золотой медалью и сразу оказался среди шкафов, заполненных канцелярской премудростью. Престарелый чиновник, страдающий геморроем, вынул из ушей вату, обнюхал ее, оглядел со всех сторон и воткнул в ухо обратно.
– Попался! – сказал он со злорадством старого человека, у которого все в прошлом. – Теперь, милейший, пока целый шкаф копий не начертаешь, не видать тебе пенсии…
«Потерянные годы», – вспоминал Грот, изнемогавший от переписки бумаг, от их подшивания, прокалывания и нумерования. На беду свою он попал под начальство барона Модеста Корфа, выпущенного из Лицея вместе с Пушкиным, а барон, от поэзии далекий, был ужасный педант. Вторая беда настигла от самого императора Николая I, который однажды сказал Корфу:
– Барон, кто у тебя в канцелярии обладает таким красивым и ровным почерком? Глаз не оторвать!
– Достойно усердствует мой чиновник Яков Грот.
– Ты его удержи… не дай ему сбежать от тебя!
После этого бедный Яша проливал слезы над страницами дневника: «Дни уходят, не оставляя ни в уме, ни в сердце прочных следов; зато оставляют по себе толстые кипы исписанной веленевой бумаги; будет мне, чем похвастать внукам, показывая им шкафы канцелярии, и скажу я им: сочинять не сочинял, да зато вволю писывал…» Любимой матери Грот говорил: