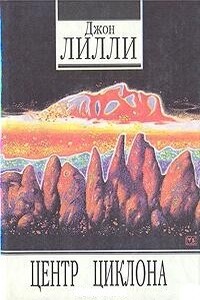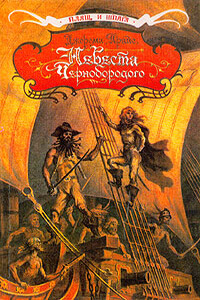Когда он прибыл в Париж, у него было много дел.
Улицы этого города были людям по мерке.
Он их буравил, как червь долгой холодной зимой
буравит свои ходы в тёмных глубинах сыра.
Дома здесь были настолько большие, что мудрость
помельчала и убежала, словно мышонок в амбар.
Но в домах обитала только лишь темнота
и ядоносная косность тех, кто в них угасал.
На Главном рынке купил он букетик робких цветов,
а в Клиньянкуре вдохнул всю военную скуку.
Каждый камень запомнил маленький Исидор,
лицо его сделалось узким, заострённым, как зуб,
стало худым и жёлтым, как в пампе луна на ущербе,
и он походил всё больше на тающую луну.
Каждый час понемногу ночь крала его лицо.
Многое поглотила Парижская ночь в столетьях:
все армии, все династии, героев и проституток,
детей и глубоких старцев, бедных и богатеев.
Дюкасс здесь был одинок, и сколько было у мальчика
света — он роздал всё, весь свет до последней капли,
тогда-то и начал он сраженье своё со стервятником:
Дюкасс породил волков — чтобы свет его стерегли,
нагромоздил смерть — чтобы спасти жизнь,
забрёл в дремучее зло — чтобы пробиться к добру.
Я узнал его в Уругвае: в ту пору он был так мал,
что мог легко затеряться среди июльских гитар,
те дни далёкие были днями войны и дыма,
реки порвали постромки — вышли из берегов.
Для его рожденья на свет не было даже времени.
Но он стоял на своём, упрямо карабкался к жизни,
скатывался в небытие, пока не явился в мир
в пору, когда барабаны и кровь осаждали стены
и Монтевидео тлел, словно глаза ягуара.
Эта эпоха была взвихренной и лиловой,
точно пиратское знамя — рваное знамя убийц.
Из сельвы на город неслись порывы военного ветра,
они приносили смутный запах горелой травы.
На берегу реки сломанные винтовки
затапливала вода, но едва наплывала ночь,
как сломанные винтовки превращались в гитары,
и ветер вдаль уносил поцелуи и плач баркарол.
Сын Америки! Бледный маленький жеребёнок
с её пастбищ! Дитя
уругвайской луны!
Ты писал в седле, продираясь
сквозь заросли жёсткой травы и ароматы ночи,
дорог, тоски и подков!
Каждая твоя Песнь
затягивалась, как лассо,
и Мальдорор, восседающий
на черепах коров.
пишет, словно затягивает лассо,
сгущается вечер,
номер в отеле,
вокруг кружит хищная смерть.
Мальдорор своим лассо пишет то, что читаешь ты
в его кровавом письме.
Унылый напев Мальдорора улетает на запад,
уже заблудились гитары на берегу Параны,
и на пойму упали таинственные потёмки,
как будто бы из ведра на землю плеснули кровью,
уже большие стервятники стелятся над землёй,
с уругвайского берега плывет виноградная ночь.
Во мраке слышится мерный дрожащий напев лягушек;
металлические насекомые терзают ночное небо;
а в это время большая луна раздевается в пампе,
стелет в прохладе свою жёлтую простыню.
Жестокий ночной лукавец вострит лукавые когти,
в две щёлочки превратились два непорочных глаза,
разум его заволакивает бархатная темнота,
в зверином вое он топит свою небесную суть.
Ночная Парижская жаба скачет за ним по пятам —
зыбкое порожденье бесчеловечного города,
она его ждёт, отворяет створы огромной пасти —
уже она пожрала маленького Дюкасса.
Со стороны похоже, будто узенький гроб
содержит хрупкую скрипку или мёртвую ласточку:
уже от несчастного юноши осталась горстка костей,
никто не видал катафалка, который его увёз,
поскольку он и в гробу продолжает своё изгнанье:
с этой поры для изгнанника земля изгнания — смерть.
Теперь он избрал Коммуну: на окровавленных улицах
Граф де Лотреамон, стройная красная башня,
в своё горящее сердце вобрал всю ярость народа
и подобрал знамёна поверженной наземь любви,
и в дни Кровавой недели Мальдорор не погиб,
его бесплотную грудь пронзили все пули — при этом
никто не увидел крови и никогда не узнал,
что с этой самой поры привиденья не стало:
парижское кровопролитье его породнило с жизнью —
так Мальдорор признал в людях братьев своих.
Но перед тем, как исчезнуть, он хмурый лик повернул
и тронул рукою хлеб, нежно погладил розу
и вымолвил: «Я верховный защитник каждой пчелы,
одной лишь ясностью должен жить на земле человек».
Подавленные, мы из рук ребёнка
берём его раздробленные Песни,
то малое, что от него осталось,
крылатый траур мрачного фрегата,
и чёрный курс его теперь нам ясен.
Яснее сделались его слова.
За каждой тенью объявился колос.
А в каждом беспросветном взгляде — глаз.
В пространствах страха распустилась роза.
Надежда проросла из смертных мук.
Любовь перетекла за кромку чаши.
Долг — несгибаемый росточек дуба.
Роса — целующая руки листьям.
Добро — чьих глаз на свете больше звёзд.
Честь — без расчёта на медаль и замок.
Парижская смерть на него упала, как покрывало,
как вялые крылья зонта, как безобразный упырь,
но кровью истёкший герой её оттолкнул, решив,
что это его созданье, порождённый им образ,
что это поздний сполох прежних его кошмаров.
«Меня здесь нет, Мальдорора больше не существует!
Я — радость грядущей весны!» — так он крикнул во мрак,
и руки его отныне рождали не темноту,
и это не было свистом газетных статей в тумане,
и это не был паук, распухший от собственной тьмы, —
а просто Парижская смерть, которая прилетела
справиться об уругвайце, о непокорном Дюкассе,
о яростном мальчугане, который решил вернуться,