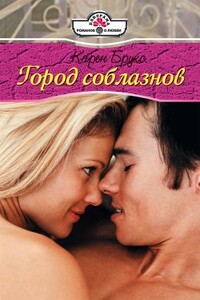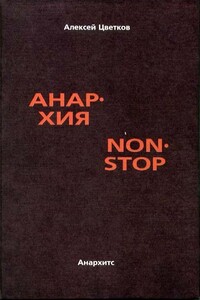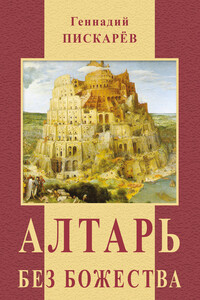В статье «Свобода и вера», помещенной в январской книжке «Русского вестника»[2], я попытался установить границы так называемой внешней свободы, — в отличие от внутренней, субъективной, которая управляется своими особыми законами и с первою имеет общее только в имени. Мне казалось, и я там высказал, что лишь в меру своей веры каждое живое существо истинно нуждается в свободе и может ее для себя требовать; требовать в степени столь безусловной, как безусловна его вера, и в тех именно определенных границах, в которых совершить некоторую деятельность у него есть назначено.
Так изложенный, этот взгляд и есть, и может быть понят только как направленный против индифферентистов. Индифферентизм я считаю отрицанием жизни; и в законы бытия его все, живущее какою-либо верою, утверждением так же не может проникнуть, и не должно, как он сам, разрушая все живое, не проникает в смысл особых, в нем лежащих, утверждений. И если, противопоставив его хаотической свободе принцип свободы живой и созидающей, я дал утверждающему в истории началу некоторый против нее перевес, — я начинаю думать, что сделал нечто не незначительное. Статья, которая в побочных сторонах своих исполнена недостатков, в главном содержании своем мне представляется теперь и ценною, и важною. Непреднамеренно, я произнес слово, которое всего нужнее было произнести, — и которое я хотел и готовился произнести когда-нибудь, но не теперь, и не с силами утомленными, какими одними располагаю. В век равнодушия, разложения, я произнес слово: нетерпимость, конечно, лишь слабость моих слов, неслышность моего голоса была больна, а не самый смысл слова. Но если оно услышано, я его повторяю: «да, нетерпимость; да, непонимание законов умирающего; да, отвращение к нему до неспособности переносить его вид» [3].
Мой противник называет это «законом жизни животной» [4]; он не находит слов, достаточно сильных, чтобы заклеймить его [5]; и, наконец, просто отвергает, чтобы я высказал его серьезно, не впадая в ложь перед собою [6]. И, между тем, этою слепотой своего негодования он именно подтверждает его как вечный исторический закон, через который мы не только не переступаем никогда в действительности, но и не можем переступить. Все объясняется только тем, что он и я, мы живем различными утверждениями: он — утверждением хаоса, разрушения, смерти; я — утверждением планомерного движения в истории, созидания, жизни; но в смысле моего утверждения он очевидно так же не может переступить, как и я, конечно, смысл его жизни презираю, — и даже не признаю его смыслом жизни, но только косного бытия, как давление камня, который ненужно лежит на пути, как движение лавины, которая без внимания к засыпаемой им деревне рушит ее хижины, засыпает в ней людей, не ощущая их боли, не слыша их страдания. И не только он и я, мы не понимаем друг друга, но этим непониманием противоположного и вечно жила история. Закону «жизни животной», как он называет указанный мною принцип, без сомнения, он противополагает «закон жизни подблагодатной»: но разве христианский мир не отрицал так же полно языческого, как я в эту минуту отрицаю принципы индифферентизма? Разве он видел в его подвигах что-нибудь кроме смелых преступлений, в добродетелях — кроме красивых пороков? И сам Спаситель разве мирился с фарисейством, входил с ним в согласие, выбирал, что бы из своего соединить с чем-нибудь, что есть там, в «закваске фарисейской и саддукейской»? И неужели мой оппонент, автор нескольких богословских трактатов и вот уже много лет инициатор подобного эклектизма в жизни церковной, так мало вдумывался в Евангелие, что не понял главный смысл утверждений Спасителя; что ни терпение мертвое, ни нетерпение [7] Он не проповедовал, но правду внутреннюю в отличие от правды внешней, и с последнею не мирился, ей не простирал прощающей руки; мытарь — в раю, в раю разбойник, там грешница; но где богатый юноша, не хотевший сделать последнего? На лоне ли Авраама законники? Нет, мы о них слышали: „истинно. Истинно говорю вам, земле Содомской и Гоморрской будет отраднее в день суда, нежели им“[8].
Явившись среди нашего общества с истолкованием «учения о Логосе» [9], он не замечает, как вот уже много лет при молчаливом терпении всех, он являет неслыханный пример кощунства над Евангелием, и среди народа, темного в книжном научении, но по истине мудрого, являет еще невиданный никогда образец религиозной тупости. Этот народ и жив тем, что, изо дня в день слыша на литургии чтение Евангелия, усвоил его дух и смысл в целом; и, не ошибаясь, этот его цельный смысл применяет к жизни, им судит другого, и, прежде чем другого и строже, чем другого согласно этому смыслу, им судит себя. Г-н Вл. Соловьев взглянул на Евангелие, как боец на арсенал, из которого он мог бы извлечь себе оружие. Его писания мелькают всюду текстами, и он не чувствует, как весь смысл этих писаний, самый дух, с каким они начаты, не только не имеют уже в себе ничего евангельского, но являются совершенным его отрицанием ненавистник своей родины [10], презирающий его Церковь [11], что, наконец, он любит? И без любви, со словами только осуждения всему