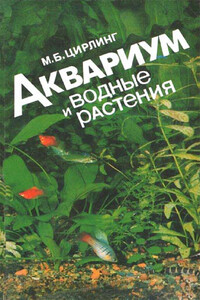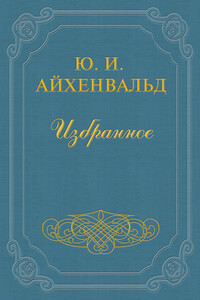Две великие партии существуют издавна между русскими учеными по вопросу об отношениях России к другим народам Европы. Одна партия выражает свое убеждение на этот счет формулою: «Россия цветет, а Запад гниет»; а когда ее представители приходят в некоторый пафос, то начинают петь про Россию ту самую песню, которую, по свидетельству г. Милюкова, в недавно изданных им заметках о Константинополе (стр. 130){1}, оборванный мальчишка в константинопольской кофейной пел про Турцию, – а именно:
Нет края на свете лучше нашей Турции, нет народа умнее османлисов! Им аллах дал все сокровища мудрости, бросив другим племенам только крупицы разумения, чтоб они не вовсе остались верблюдами и могли служить правоверным.
Нет города под луною, достойного быть предместьем нашего многоминаретного Стамбула [1], да хранит его пророк. Нет в нем счета дворцам и киоскам, дорогим камням и лунолицым красавицам.
Если бы Черное море наполнилось вместо воды чернилами, то и его недостало бы описать, как сильна и богата Турция, сколько в ней войска и денег и как все народы завидуют ее сокровищам, могуществу и славе.
Г-н Милюков заверяет, что его проводник из греков, переведши ему эту песнь, нагнулся к нему и шепнул, в pendant [2] к ней, «Собаки! Настоящие собаки!..» (стр. 131).
Но дело не о собаках…
В противоположность первой великой партии, сейчас охарактеризованной нами, другая партия должна бы говорить: «Нет, Россия гниет, а Запад цветет». Но столь крайней и дерзкой формулы до сих пор в русской литературе еще не появлялось и, конечно, не появится, ибо никто из нас не лишен патриотизма. Партия, противная туркоподобной партии, останавливается на положениях, гораздо более умеренных и основательных. Она говорит: «Каждый народ проходит известный путь исторического развития; Запад вступил на этот путь раньше, мы позже; нам остается еще пройти многое, что Западом уже пройдено, и в этом шествии, умудренные чужим опытом, мы должны остеречься от тех падений, которым подверглись народы, шедшие впереди нас».
К этой второй из двух великих партий принадлежит и г. Бабст, как удостоверяют нас, между прочим, его путевые письма, о которых мы намерены теперь говорить. Нужно отдать справедливость г. Бабсту: он является в своих письмах очень ловким адвокатом того дела, за которое взялся. На каждом шагу он умеет напомнить нам, как нас опередила Европа; в каждом немецком городке умеет найти какое-нибудь полезное или приятное учреждение, которого у нас еще нет и долго не может быть; по каждому из главнейших наших вопросов он представляет такие соображения и параллели, из которых ясно, что если уж Запад гниет, то и наше процветание придется назвать плесенью. Приведем несколько таких параллелей, сделанных им мимоходом, во время кратких отдыхов от скакания по железной дороге, как он сам выразился о своем путешествии» (стр. 1){2}.
В Берлине, говоря о неудобствах бюрократии вообще, г. Бабст отдает, однако же, справедливость прусскому чиновничеству и делает при этом следующее замечание (стр. 45–47):
Взгляните на прусского полицейского, на берлинского Schutzmann, войдите в первое присутственное место, в почтамт, в тюрьму, и на вас повеет все-таки иным воздухом; вы чувствуете себя и среди бюрократической атмосферы свободней, самостоятельней; вы знаете, что честь ваша не будет и не может быть оскорблена наглым поступком, безнаказанною, бессознательною грубостью; вы начинаете сознавать себя человеком свободным, который имеет свои права, начинаете понимать, что не вы существуете, работаете и живете для чиновничества, но что последнее существует для вас. С нами, русскими, происходят, как мне показалось, самые разнообразные изменения с первым шагом за границу. Мы, как хамелеоны, беспрерывно меняем цвета, покуда наконец не успеем примениться. Сначала русский является таким подобострастным, вежливым, так боязливо подходит к чиновнику на дороге, к полицейскому, что обращает на себя общее внимание. «Вероятно, русский», – случалось мне не раз слышать о каком-нибудь пассажире, о чем-то упрашивающем чиновника железной дороги, и упрашивающем непременно уже о каком-нибудь снисхождении, о чем-нибудь противном правилам дороги. Чиновники при дорогах вообще чрезвычайно вежливы, и редко встретишь с их стороны отказ, если только есть какая-нибудь возможность услужить. Но потом, видя, как все угодливо, видя, что люди здесь свободны, наш брат начинает чувствовать в себе сознание собственного достоинства, самостоятельности, начинает хорохориться, и у многих прорываются уж барские замашки, своевольничанье и даже грубость, – но это до первого отпора. Дадут окрик, укажут на закон, и опять сделаешься как шелковый. Привыкнешь, конечно, обойдешься и станешь действительно гражданином, уважающим закон, сознающим и свои права и обязанности, – к сожалению только, кажется, до первого шага на родной почве, где нас разом обдаст иною жизнью, где вы и после короткого отсутствия, несмотря на радость свидания с близкими и друзьями, несмотря на родную вашему сердцу жизнь, чувствуете себя сначала неловко и не но себе. Вы отвыкли уже немножко от дикой обстановки, хоть и из Европы же заимствованной, но дикой по форме и переложенной как-то на казацкие нравы, и в то же почти мгновение вы чувствуете, как в вас самих начинают шевелиться скифские привычки, и смотришь – едва ступил на родную почву, норовишь уже кого-нибудь выбранить, хоть извозчика на первый раз.