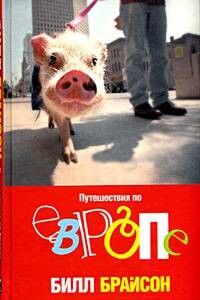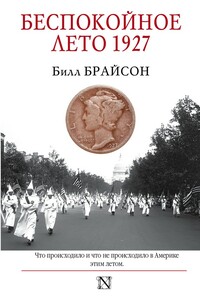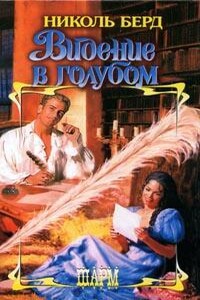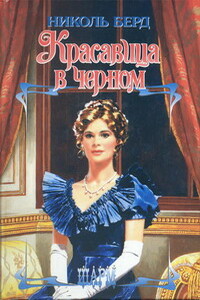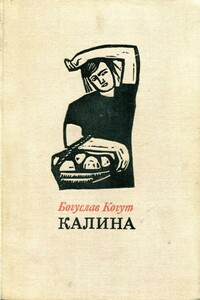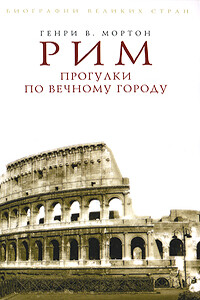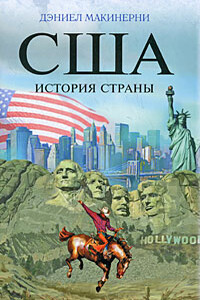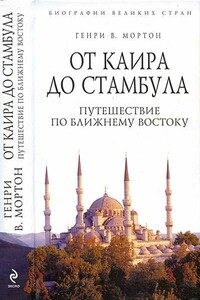Впервые я увидел Англию туманной мартовской ночью 1973 года, высадившись с полуночного парома из Кале. Двадцать минут на причале кипела жизнь, проезжали легковушки и грузовики, делали свое дело таможенники, и все направлялись в сторону Лондон-роуд. И вдруг все стихло, а я побрел по сонным, тускло освещенным улочкам, затянутым туманом — точь-в-точь как в фильме про Бульдога Драммонда[1]. Просто чудо — целый английский город принадлежал мне одному.
Лишь одно несколько нарушало очарование — все отели и гостиницы, увы, были закрыты на ночь. Я дошел до железнодорожной станции в надежде поездом добраться до Лондона, но и в здании вокзала было темно, а все двери заперты. Я стоял, гадая, что делать, и тут заметил серый отблеск телевизора в верхнем окне гостиницы через дорогу. Ура! — обрадовался я, кто-то не спит, — и поспешил туда, намереваясь смиренно извиниться перед хозяевами а поздний визит и воображая жизнерадостный разговор, включавший такие реплики:
— О, не могу же я просить, чтобы меня накормили среди ночи! Нет, честное слово… ну, если вы уверены, что то не трудно, тогда, пожалуйста, просто ростбиф с хлебом, огурчиков с укропом, да еще, может быть, тарелочку картофельного салата и бутылочку пива.
Подходы к крыльцу терялись в непроницаемой тьме, и я в спешке и по незнакомству с британскими привычками споткнулся о ступеньку и врезался носом в дверь, разбросав полдюжины загрохотавших молочных бутылок. Окно наверху распахнулось почти мгновенно.
— Кто там? — резко спросили из окна.
Я отступил назад, потирая нос, и всмотрелся в силуэт головы с кудряшками волос.
— Здравствуйте, мне нужен номер, — сказал я.
— У нас закрыто.
— О! А нельзя ли поужинать?
— Попробуйте в «Черчилле». На набережной.
— На какой набережной? — спросил я, но окно уже с лязгом закрылось.
Роскошный «Черчилль» светился огнями и по всем признакам готов был принять посетителей. Заглянув в окно, я увидел в баре мужчин в костюмах, элегантных и обходительных, будто из пьесы Ноэля Коуарда. Я притаился в тени, чувствуя себя уличным мальчишкой. Как по общественному, так и по костюмному положению я не подходил для этого заведения, и в любом случае оно явно не вписывалось в мой скромный бюджет. Только накануне я вручил исключительно пухлую пачку разноцветных франков пучеглазому пикардийскому портье, в уплату за единственную ночь в комковатой постели и тарелку таинственного блюда под названием «Охотничье», в котором то и дело попадались кости мелких зверьков, и их приходилось украдкой сплевывать в большую салфетку, чтобы не показаться невежей, — после чего принял твердое решение впредь быть осторожнее в расходах. Я со вздохом повернулся спиной к манящему «Черчиллю» и поплелся во тьму.
На набережной я наткнулся на беседку — открытую всем стихиям, но с крышей — и решил, что на лучшее рассчитывать не приходится. Подложив рюкзак вместо подушки, я улегся и поглубже завернулся в куртку.
Скамейка была сделана из узких планок — жестких и утыканных к тому же большими болтами с круглыми головками, на них совершенно невозможно было с комфортом отдохнуть — разумеется, так и задумывалось. Я долго лежал, прислушиваясь, как море омывает гальку под набережной, и наконец задремал. Это была долгая холодная ночь, заполненная путаными сновидениями, в которых я спасался по арктическим льдам от пучеглазого француза с арбалетом и большим запасом болтов. Француз был никуда не годным стрелком и то и дело поражал меня болтами в зад и ляжки, мстя за украденную льняную салфетку с пятнами соуса, которую я запихал за одежный шкаф в своем номере. Около трех ночи я с криком проснулся. Тело затекло, от холода меня бил озноб. Туман рассеялся. Воздух был ясен и тих, а в небе горели звезды. Маяк на конце мола неустанно обметал лучом море. Все это было очаровательно, но я слишком замерз, чтобы наслаждаться видом. Дрожа, я порылся в рюкзаке и вытащил все теплое, что сумел найти — фланелевую рубашку, два свитера и запасные джинсы. Шерстяные носки я приспособил вместо перчаток, а пару фланелевых боксерских трусов натянул на голову как оригинальный ночной колпак, после чего снова рухнул на скамейку и стал терпеливо ждать сладостного поцелуя смерти. Но, так и не дождавшись, уснул.
Второй раз я проснулся от резкого воя туманной сирены, чуть не сбросившего меня с узкого насеста. Я сел, все еще несчастный, но чуть менее продрогший. Мир купался в молочном предрассветном сиянии, исходившем неизвестно откуда. Над водой с криками кружили чайки. За чайками, за каменным молом, величественно выходил в море огромный, сверкающий огнями паром. Я посидел еще немного — молодой человек, у которого в голове забот куда больше, чем мыслей. Рев корабельной сирены разнесся над водой, заново взбудоражив надоедливых чаек. Я стянул носок-перчатку и посмотрел на часы. Без пяти шесть. Я посмотрел вслед парому и задумался, куда можно отправляться в такую рань. И куда в такую рань направиться мне? Я надел рюкзак и зашаркал по набережной, чтобы разогнать кровь по жилам.
Подходя к «Черчиллю», который теперь тоже мирно спал, я повстречал старичка, прогуливающего собачку. Собачонка упорно желала оросить все до одной вертикальные поверхности, вследствие чего ее приходилось не столько выгуливать, сколько волочить на трех ногах.