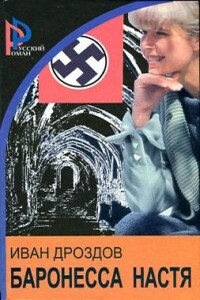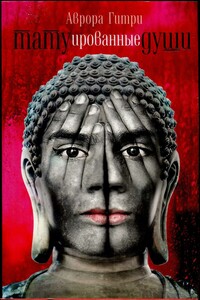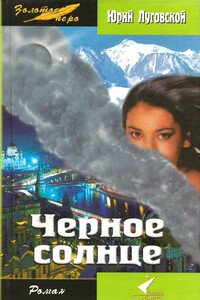Мне иногда очень хочется сесть за стол и написать книжку, только пока я не знаю, о чем она будет. Я гляжу по сторонам и ничего особенного не замечаю. Вернее, замечаю, но не умею сказать об этом так, чтобы и другим это показалось тоже чем-то особенным. И тогда я делаю вот что.
Я сажусь поудобнее, плотно закрываю глаза и даже стараюсь немножко закатить их под лоб. Делаю я так неспроста: мне надо увидеть все, что находится не передо мной, а внутри, и все, что осталось позади меня.
Сначала, конечно, ничего, кроме темноты, я не вижу. А так как темноты я побаиваюсь, то и вспоминается мне все что-то страшноватое. К примеру, больница.
В больницах я в детстве лежала трижды. Трижды, если не считать кое-каких осложнений, возникших при моем рождении: из-за них нас с мамой задержали в роддоме дольше положенного.
Когда мама была уже сильно беременна, папа решил покатать ее на лодке. Почему-то лодка перевернулась только на середине озера, а не тогда, когда беременная мама в нее садилась. Мама плавает хорошо, так что до берега добрались нормально. Почти сразу же у мамы начались схватки и папа только-только успел довезти ее до родильного дома. Это было в начале осени, и рождаться мне было еще не пора. К счастью, ничего страшного не случилось, но и даром для меня эта прогулка не прошла. Когда наступило нужное время и папа снова отвез маму в родильный дом, родить мама почему-то никак не могла. Хотя было очень больно и она была уверена, что я уже рождаюсь, ничего у нас не получалось. Акушерка говорила:
– Да ты подуйся, может, и выскочит…
Мама дулась изо всех сил, но никто не выскакивал. Тогда акушерка залезла к маме в живот и нащупала мою голову, потом шею. Оказалось, что вокруг шеи обмоталась пуповина. Акушерка эта, Галя, была очень опытная. Мама училась с ней в одном классе. Она же принимала у мамы Витю, моего старшего брата. Тогда мама родила на вечере встречи их класса. Стала танцевать, а Витя решил родиться.
И опять у Гали с нашей семьей были проблемы. Галя осторожно оттянула пуповину от горла и высвободила мне голову. Все пошло как по маслу, и я быстренько родилась, правда, уже задушенная и с хвостом.
Хвост, видимо, мало взволновал Галю, ей надо было меня оживить. Я молча лежала у нее на руках, совершенно синяя. Она трясла меня, шлепала, но я упорно молчала. Похоже, говорить мне было не о чем. Мама спросила ее:
– Кто?
Галя только огрызнулась:
– Да погоди ты…
И продолжала меня колотить, держа вниз головой за синие пятки. Наконец, я заорала и не могла уже остановиться очень долго. Маме потом нянечка сказала, что я хоть и синяя, но всех детей перекрикивала.
Когда маме принесли меня в первый раз, она испугалась. Густой синий цвет, в который я была выкрашена при рождении, сменился фиолетовым и стал постепенно сходить. Так что теперь окрас был пегий. Кроме того, мама обнаружила хвост: маленькую треугольную складочку, покрытую пухом и свисавшую пониже спины. Мама испугалась, а Галя, которая видала всякое, сказала маме, что надо радоваться. Мама стала радоваться, но нести меня такую домой побоялась. Так мы провалялись в роддоме полмесяца, после чего я приобрела нормальный цвет, хвост же бесследно исчез.
Самостоятельно я загремела в больницу на пятом году жизни. Из-за ангин. Я так часто болела ангиной, что могла просто не вылезать из постели. Стоило мне войти в комнату, где недавно открывали форточку – ангина начиналась безотлагательно.
Меня показывали многим врачам, но все они не могли решить, как поступать дальше. Одни говорили, что необходимо своевременно ликвидировать такие злостные наросты, как гланды и аденоиды. Ведь они, говорили эти врачи, только привлекают бактерий и мешают ребенку дышать. Другие возражали, что природа дала человеку гланды, и мы не вправе лишать организм таких естественных стражей. Ведь они, собирая попадающие в слизистую оболочку бактерии, способствуют появлению в организме защитных сил и, таким образом, спасают от более серьезных болезней. А один старичок-врач, лечивший еще моего папу, вспомнил, как папе вырезали гланды в тридцать лет и как папа заразился в больнице корью и от этого чуть не умер.
Но родители иначе истолковывали этот случай. Они решили, что мне все же стоит вырезать гланды, причем желательно сделать это до тридцати. По дороге в клинику мама повторяла, что мне будут давать мороженого, сколько захочу. Но я не любила мороженое. Возможно, потому, что мне никак не удавалось его толком попробовать из-за постоянных простуд. Так что я не особо утешилась и завела рев, как только осталась одна, без мамы в жесткой больничной пижаме. От рева у меня поднялась высокая температура, и операцию пришлось отложить. Но вот, наконец, я, умытая, сижу в красивом металлическом кресле на шарнирах. Мне что-то закапывают в нос и велят открыть рот. Делают уколы. Я даже не замечаю, как в открытый мой рот врач залезает огромными кривыми ножницами. Я замечаю только, когда она их вынимает.
В ножницах зажата темно-красная сморщенная слива. Врач смеется, что-то говорит. Я плююсь кровью. Вскоре изо рта вылезает вторая такая же слива. Мне протягивают миску с нарезанными кусочками вафельного мороженого. Кормят с ложки. Голова моя от мороженого проясняется, и я слышу, как врач спрашивает, не хочу ли я еще раз увидеть или взять с собой, в бумажку, свои гланды. Мороженое застревает в моем искромсанном горле. Гланды я видеть и, тем более брать с собой, совсем не хочу.