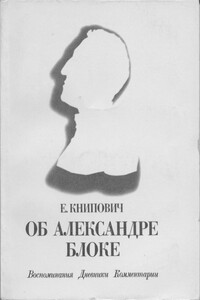Когдa сейчас — через шестьдесят лет — я пытаюсь восстановить в памяти пережитое тогда, я особенно Ьстро ощущаю необходимость жесткой дисциплины, точного разграничения двух времен и двух восприятий.
Я не хочу спорить, не хочу опровергать легенды, бытующие в литературных кулуарах, а также и в работах некоторых мемуаристов, тем более что я знакома с очень небольшим числом произведений этого жанра.
Попытаюсь «нелживо и неспешно» рассказать о Блоке, таком, каким я его знала в 1918–1921 годах.
Понимаю, что по многим приметам и реалиям образа жизни, быта, связей и отношений с людьми Блок пооктябрьских лет не похож на Блока 1901 или 1908 года.
И — в этом я уверена — все‑таки похож в том главном, что определяет его путь, о котором он сказал: «…путь среди революций; верный путь».
Сейчас очень легко быть «умнее» Блока, потому что он действительно не знал революционной теории и не верил в ее значение, потому что острейшее предчувствие «тектонических» сдвигов в судьбах человечества порой получало в его толковании христианско–эсхатологическую окраску. И многое еще можно напомнить и перечислить. А потом — повторить слова самого Блока: «Путь среди революций; верный путь». «…Только вкратце хочу напомнить Вам наше личное, — писал Блок в неотправленном письме к Зинаиде Гиппиус. — Нас разделил не только 1917 год, но даже 1905–й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, как и Bаша), но только рядом с второстепенным проснулось главное».
Я думаю, что здесь Блок — по великой беспощадности своей — несправедлив к себе. Ведь во время самой глухой реакции созданы не только стихи страшного мира, где воплотилась боль за унижение человека, ненависть ко всем уродствам и болезням в жизни предреволюционного времени. В эти же годы — черные годы — созданы стихи о России, «Ямбы», «На поле Куликовом» — цикл, пронизанный волей к подвигу, огненной любовью к Родине, огненной верой в ее великое будущее. Вот это главное, языками пламени прорывавшееся даже в самое страшное время, и стало основным после Октября. Но «второстепенное» то, что рождало в предреволюционные годы трагическую противоречивость мировосприятия, — тоже продолжало жить в сознании художника, вызывая несправедливое самоосуждение и страх перед великой силой организации, исступленное и нетерпеливое желание, чтобы все в жизни стало прекрасным — тут же, во мгновение ока.
Но взрывы «второстепенного» — гнев на себя и других, опасения, несправедливость оценок — не меняли главного: твердой, нерушимой веры в величие Октября, в необратимость той перемены, которую он внес в жизнь всего человечества. Об этом по–своему, на своем языке, он говорил мне и в 1921 году. И спасибо К. Федину, что он в своих заметках о Блоке дал этому прекрасное подтверждение. Федин вспоминает речь Блока о Пушкине в феврале 1921 года (в Доме литераторов, убежище старой интеллигенции) — трагическую речь «О назначении поэта».
«Когда в душной передней толпились около вешалок, тесня со всех сторон Блока, с ним рядом очутился старый писатель, один из тех, что составляли внутренний лик Дома литераторов… С очевидным удовлетворением, но с болезненной миной он посочувствовал Блоку:
— Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Александрович!
— Никакого, — ровно и строго отозвался Блок. — Я сейчас думаю так же, как думал, когда писал «Двенадцать».
И эта святая верность «главному» отразилась в последние годы жизни Блока — на большом и малом, на восприятии и оценке событий, людей, работе, на отношении к трудностям быта.
Аккуратный до педантизма, рыцарски вежливый, органически неспособный не выполнить даже самого незначительного обещания, бесконечно внимательный к нуждам близких и очень далеких, Блок в трудные послеоктябрьские годы мог поистине служить образцом подлинной человечности. Он с огромным уважением относился ко всем видам и формам труда. Он говаривал, что «работа везде одна — что печку сложить, что стихи написать». Ладный, высокий, неутомимый ходок, он спокойно и естественно — без интеллигентского кокетства — орудовал молотком и пилой, топором и лопатой. Блок с теннисной ракеткой — непредставим, но всякую физическую работу он делал так, как делает ее русский человек — «золотые руки». Блока раздражала отвлеченность, физическая неприспособленность интеллигентов, возводимая к тому же в ранг добродетели. Жило в нем чисто горьковское отвращение к «духу», оторванному от плоти, от жизни, а также и к попыткам поднять бытовые лишения (пусть самые тяжелые) до уровня духовной трагедии.