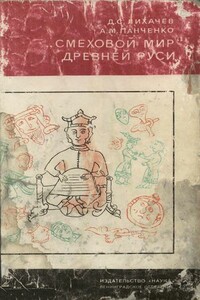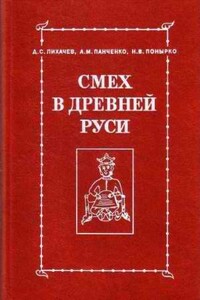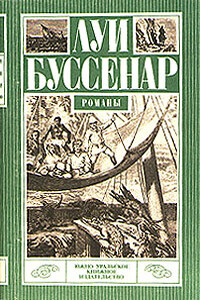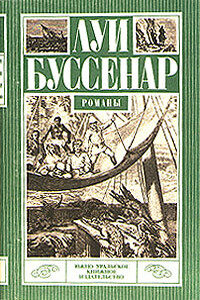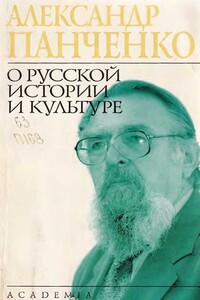
О русской истории и культуре
А. М. Панченко — один из ведущих специалистов по русской истории и литературе «переходного периода» (XVII в.). Выпускник Карлова Университета в Праге, он начал как специалист по чешской литературе (книга «Чешско-русские литературные связи XVI–XVII вв.»), но впоследствии сосредоточил свои исследования на одной из наиболее бурных эпох в истории древнерусской истории и культуры — «бунташном» XVII веке. Его исследования одной из самых бурных эпох в истории древне–русской истории и культуры — «бунташного» XVII века — стали классическими — это монографии «Русская стихотворная культура XVII века» и «Русская культура в канун Петровских реформ».
В соавторстве с Д. С. Лихачевым А. М. Панченко написал ставшую классической книгу «„Смеховой мир“ Древней Руси», положившую начало изучению русской «смеховой» культуры средних веков.
Его статьи по истории православия, о русской смеховой культуре, юродстве, писательских типах в разные эпохи и многом другом — образцы традиционного литературно-исторического метода, обогащенного семиотическим подходом.
Работы, представленные в данном сборнике, основаны на широком культурологическом подходе, сочетающем блестящее знание материала эпохи, точность анализа и живой, яркий стиль изложения. A. M. Панченко изучает русскую культуру как живое целое, основанное на «топосах» — ее основополагающих ориентирах. Именно это делает работы ученого необыкновенно важными и актуальными как для академической науки, так и для русского культурного сознания. Книга предназначена для специалистов–филологов и историков, а также для всех, интересующихся историей русской культуры.
| Жанры: | История, Религиоведение, Христианство, Православие |
| Серии: | - |
| Всего страниц: | 160 |
| ISBN: | 5–267–00274–7 |
| Год издания: | 2000 |
| Формат: | Полный |