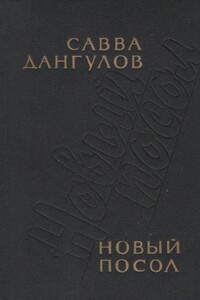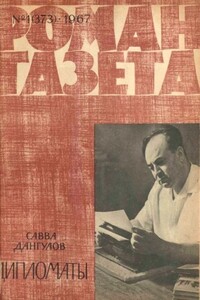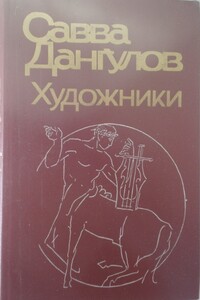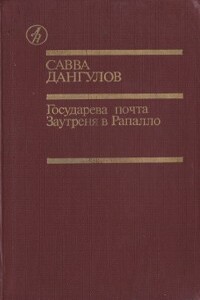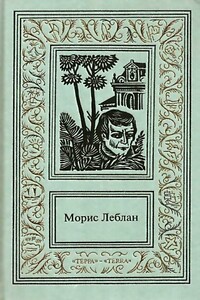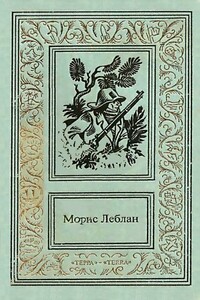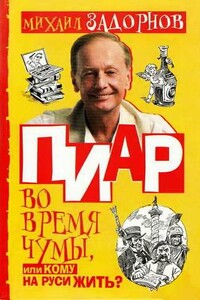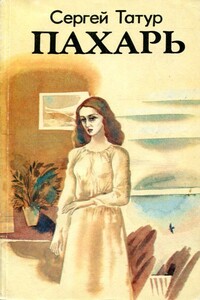Леня спал под старой яблоней. Просыпаясь, он видел небо, запорошенное звездной пылью, и белый шатер армянской церкви. В ее облике было что-то древнее и непостижимо тоскливое. Вот и теперь, проснувшись, он увидел ночное небо и церковный купол. Который теперь час? Когда-то церковный звонарь бодрствовал всю ночь и отбивал время. По его гулким часам хлеборобы выезжали в степь — зорю они встречали уже за большими балками, за колодцем, у степного разъезда Андрей-Дмитриевского. Звонарь умер, и с тех пор купол церкви и небо, как два куска мрамора, врезанных один в другой, были недвижимы и безмолвны.
Быть может, Петр уже вышел к мосту, прислушался, — впрочем, за гулом Кубани не услышишь идущей машины. Кого он все-таки встречает в этот полуночный час, и почему гость Петра подгадал приехать так поздно? Поздно? Да, не вечером, зоревым и пыльным, не утром, а к полуночи, когда смолистая здешняя тьма разливается повсюду и, кажется, напитывает землю до самого ее чрева. А все-таки, кто он, гость Петра: однокашник, ненароком попавший в степные наши края, дальний родственник, беспокойная кочевая душа, которого волна прибила к нашим берегам, или... женщина? Может, в самом деле женщина? Где-то у Тихорецкой, верно, проснулась, тихо оделась и вышла к окну. Ах, какое здесь небо: черное, радостно-тревожное, обвитое светящимися дымами; в густозвездном небе яблоку негде упасть, даже дичку-кислице, маленькому яблочку с ярко-зеленой терпкой мякотью... Значит, женщина? У Лени захолонуло сердце, и мигом пропал сон. До сна ли теперь? Надо ехать.
Машина прошла Набережную и покатила к мосту. Гремела Кубань, сотрясая сваи, мост тонул в тумане. «Что-то рано лег туман — не проспал ли я?» Да не Петр ли это? Он неторопливо поднял руку — в пальцах незажженная папироса, у ног — корзина, по виду полным-полна. Кажется, виноград и свежий хлеб — запах свежего хлеба никуда не упрячешь.
— Дай огня... Леонид, — произнес Петр вместо приветствия: голос пасмурный, озябший. — Как-то сразу сыро стало и холодно. — Он посмотрел на реку, затянутую сизой тиной. — Туман — что бетон, не разгрызешь...
— Не опоздаем, Петр Васильич?
— Опоздаем? — Петр зажег спичку, глянули его глаза, непроницаемо черные, нездешние: кто-то из недавних прародителей Петра был черкесом. — Нет, не опоздаем... минут тридцать еще есть.
— Садитесь.
Они поехали. Леня включил печку. Стало тепло.
— Не архитектора ли встречаем? — спросил Леня, воодушевляясь, и тут же пожалел, что спросил: не надо было. — Я подвозил его к вокзалу... в тот раз, — заметил он, будто оправдываясь.
— Нет, не архитектора... — ответил Петр.
Архитектор? Да не смешно ли? А может, все-таки женщина? Да нужна ли ему женщина? Леня взглянул в зеркальце — там неспокойно поблескивали глаза Петра. Верно говорят — тигр. И не потому, что спина у него полосатая (горел новый дом, и раскаленная решетка впечаталась в спину), — природа душу его разлиновала, светлая полоса легла рядом с темной. Человек родился здесь и избегал город босыми ногами (в августовский полдень горячий булыжник приятно подпекает ноги), красивый город с кинотеатром, краше которого не было по всей Кубани, с главной улицей, прямой как струна, и, конечно, с футбольным полем. В войну город спалили почти весь, разве только футбольное поле осталось. Когда объявился прораб Петр Лобода, никто не узнал в нем босоногого мальчишку с Набережной. Первый дом на пепелище поставил он, а потом четвертый и десятый: мечту о городе, вставшем из пепла, люди хотели связывать с обликом человека, А Петр был очень хорош для этого — черноокий великан. По крайней мере, в ту пору, самую раннюю, Петр пришелся городу по душе.
Выехали на Красную. Сейчас пойдут дома, построенные Петром. Интересно, как он глянет на них... Леня убавил скорость, но Петр не поднял глаза. Или он полудремал, или был погружен в свои думы, не очень веселые... Тигр? Тигр, одна полоса светлая, другая темная... Да, Лёлюшка Колдыш шарахнулась от него именно по этой причине: что ни говори, она — человек, а он — тигр. Леня помнит Лёлюшку по школе — она была в восьмом классе, а Леня в пятом. Ей было пятнадцать, а Лене двенадцать. Да, всего двенадцать, но, стыдно признаться, он на нее смотрел уже как на женщину. Какой же она красивой казалась Лене!.. У нее была блузка, расшитая болгарским крестом, — как же она шла Лёлюшке! Сколько лет минуло, а у Лени осталось это ощущение тоскливого ветра в груди. Когда в пролете Почтовой он видел ее — не просто сознаться в этом, — Леня вдруг пускался наутек. Таких, как Леня, в школе была ватага, разве только чуть-чуть посмелее. Желторотики, что следовали за ней по пятам, — чем они отличались от Лени? Но появился в ее жизни Лобода (он уже строил первый свой дом на Красной, белый с матицами) — и их будто языком слизнуло. Из всех остался лишь один Саня Коваль. Его родные жили где-то на берегу моря — то ли в Сухуми, то ли в Батуми, а здесь обитали его тети и дяди. Этих тетей и дядей было у него — как веток на дереве. Вот Саня и перепрыгивал с одной ветки на другую, прыгал и пел, вернее — играл. В его руках аккордеон словно разговаривал. «Саня, где ты живешь?» — спрашивали его. «Где живет бедолага горлица?» — вопрошал он в ответ. Не очень-то много радости было в этом ответе: горлица — степная птаха — остается в здешних местах до холодов, нередко до той поздней поры, как стужей забелит степь. Когда видишь, как она носится над белым полем, единоборствуя с ветром, кажется, что только и есть живого на всей земле — горлица да степь... Впрочем, он мог себе сознаться в том, что у него нет дома, и это его не очень огорчало. Он был само веселье, а перед весельем не закрывают дверей. Лучшие ребята добивались дружбы с ним, а он отвечал на дружбу только одной — Лёлюшке. А Петр? Пока она кончала школу, он успел построить свой дом на Красной. Чем-то невидимым дом, выстроенный Петром, напоминал Лёлюшку: такой же ладный и светлый, одетый в платье, расшитое болгарским крестом, — по фасаду у карниза, в простенках меж окон лег орнамент.