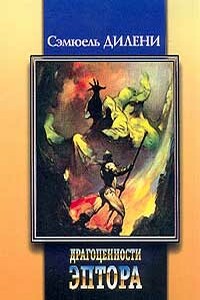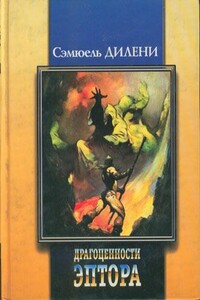— А ну, Мыш! Сыграй-ка нам чего-нибудь! — крикнул механик от стойки.
— С кораблями непруха, не берут? — подначил другой. — Хребетный разъем заржавится. Давай изобрази нам.
Мыш перестал водить пальцем по ободку стакана. Хотел сказать «нет», почти сказал «да». И нахмурился.
Механики нахмурились тоже.
Он был старик.
Он был силач.
Мыш потянулся к краю стола, а отщепенец качнулся вперед. Бедро протаранило стойку. Длинные пальцы ног врезались в ножку стула; тот заплясал на плитняке.
Старик. Силач. Третье, что видел Мыш: слепец.
Он колыхался перед столиком Мыша. Взвилась рука; желтые ногти полоснули Мыша по щеке. (Паучьи лапы?)
— Эй, парень…
Мыш уставился на жемчужины за шершавыми моргающими веками.
— Эй, парень. Знаешь, каково это?
Наверняка слепец, думал Мыш. Движется как слепец. Шея изогнута, голова выдается. И глаза…
Дедок размахнулся, поймал стул, дернул на себя. Не без скрипа уселся.
— Ты хоть знаешь, каково было это видеть, слышать, чуять… знаешь?
Мыш покачал головой; пальцы прошлись по его челюсти.
— Когда мы выдвигались, парень, триста Плеяд блестели, что лужа жемчужного молока, по левому борту, а по правому было темнехонько. Корабль был мной; я был кораблем. Через эти разъемы… — он стукнул запястными вставками о стол: клац, — я вштырился в крыль-проектор. Вдруг… — (щетина на лице дыбилась и опадала в такт словам), — по самому центру тьмы — сплошной свет! Вдарил, зацапал наши глаза, пока мы лежали по проекторным, и не отпускает. Вселенную как разодрали, и в дырку ворвался белый день. От сенсор-потока не уйти. Не отвернуться. Ночь пятнали все цвета мира. Под конец — взрывные волны: стены пели! Магнитная индукция трясла корабль, нас едва не разнесло в щепу. А потом — поздняк метаться. Ослеп. — Он плюхнулся на стул. — Я, парень, слеп. Только это смешная слепота: я тебя вижу. Я глух. Но заговори со мной, и я пойму почти все, что ты скажешь. Обонятельные нервы в основном закоротило в мозгу. То же с сосочками на языке. — (Ладонь распрямилась на щеке Мыша.) — Не чувствую твоей кожи. И тактильные нервные окончания убиты, мало что осталось. Гладкое у тебя лицо или колется да мозолится, как мое? — Он ощерил желтые зубы в ярко-красных деснах. — Старый Дан так смешно ослеп. — (Рука скользнула по жилету Мыша, прощупала шнуровку.) — Смешно, да. Чаще слепнут до черноты. В моих глазах — огонь. Вся лопнувшая звезда здесь, в голове. Свет хлестанул по палочкам-колбочкам сетчатки так, что те опомниться не могут, закупорил радужку, набил глазницы до отказа. Вот что я сейчас вижу. И вдруг ты — здесь очерчен, там подсвечен, солнечный призрак по ту сторону ада. Ты кто такой?
— Понтичос, — отозвался Мыш. Его голос — трение шерсти о песок. — Понтичос Провечи.
Лицо Дана исказилось.
— Тебя зовут… Что ты говоришь? В голове кавардак. В ушах засел хор, орет мне в череп двадцать шесть часов в сутки. Мозговые синапсы сочатся белым шумом, предсмертным хрипом — звезда все никак не загнется. Сквозь этот гвалт я едва слышу твой голос, как эхо, когда кто-то кричит за сотню ярдов. — Дан кашлянул, резко выпрямился. — Ты откуда? — Стер пену с губ.
— Отсюда, из Дракона, — сказал Мыш. — С Земли.
— С Земли? Откуда именно? Америка? Из белого домика на улочке, засаженной деревьями, с великом в гараже?
Ну да, подумал Мыш. Слепой и еще глухой. Мыш говорил хорошо, но даже не пытался избавиться от акцента.
— Я-то. Из Австралии. Из белого домика. Жил под Мельбурном. Деревья. И велик. Но это было прорву лет назад. Прорву, чуешь, парень? Слыхал об Австралии, на Земле?
— Бывал. — Мыш съежился на стуле: как бы выскользнуть?
— Ну да. Вот так-то. Но да куда тебе, парень! Куда тебе понять, каково шкандыбать по жизни, сколько ее там осталось, с окопавшейся в башке новой, и помнить Мельбурн, помнить этот велик. Как, ты сказал, тебя звать?
Мыш стрельнул глазами: слева окно, справа дверь.
— Забыл. Гвалт звезды глушит все.
Механики, устав прислушиваться, отвернулись к стойке.
— Не запоминаю ни хрена!
За соседним столиком брюнетка возобновила карточную партию со спутником-блондином.