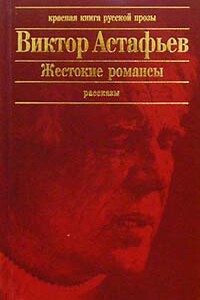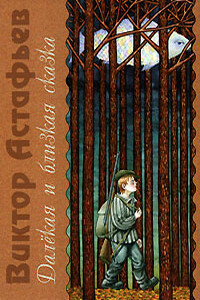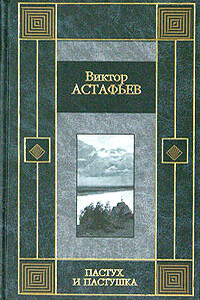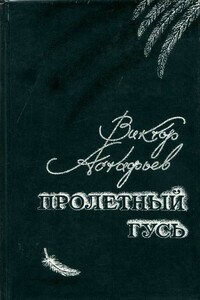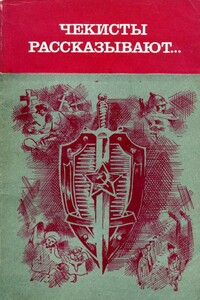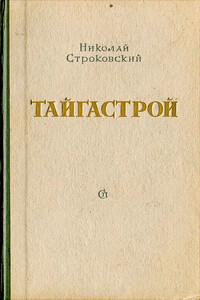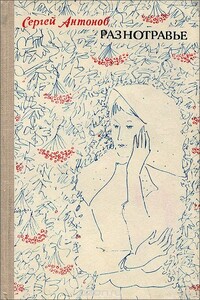И все же те короткие, драгоценные минуты, которые он «зевнул» — наверстать не удалось: космос — не железная дорога! Космонавт точно знал, где они, эти минуты, утерялись непоправимо и безвозвратно.
Возвращаясь из испытательного полета с далекой безжизненной планеты, объятой рыжими облаками, он по пути облетел еще и Луну. Полюбовавшись печальной сестрой Земли, а по программе — присмотрев место посадки и сборки межпланетной заправочной станции-лаборатории, он завершал уже последний виток вокруг Земли в благодушном и приподнятом настроении, когда увидел в локаторном отражателе черные клубящиеся облака, и понял, что пролетает над страной, сердечком вдающейся в океан, где много лет шла кровопролитная и непонятная война.
Многие державы выступали против этой войны, народы мира митинговали и протестовали, а она шла и шла, и маленький, ни в чем неповинный народ, умеющий выращивать рис, любить свою родину и детей своих, истреблялся, оглушенный и растерзанный грозным оружием, которое обрушивали на его голову свои и чужие враги, превратив далекую цветущую страну в испытательный полигон.
Космонавту вспомнилось, как совсем недавно, когда мир был накануне новой, всеохватной войны и ее удалось предотвратить умом и усилиями мудрых людей, какая-то женщина-домохозяйка писала с благодарностью главе Советского государства о том, что от войн больше других страдали и страдают маленькие народы, маленькие страны и что в надвигавшейся войне многие из них просто перестали бы существовать…
У космонавта была странная привычка, с которой он всю жизнь боролся, но так и не одолел ее: обязательно вспомнить, из какой страны, допустим, писала эта женщина-домохозяйка? В детстве, увидев знакомое лицо, он мучился до бессонницы, терзал себя, раздражался, пока не восстанавливал в памяти, где, при каких обстоятельствах видел человека, встретившегося на улице; какая фамилия у артиста, лицо которого мелькнуло на экране, где он играл прежде, этот самый артист? И даже пройдя изнурительную и долгую выучку, он не утратил этого «бзыка», как космонавт называл сию привычку, а лишь затаил ее в себе. Закалить характер можно, однако исправить, перевернуть в нем что-то никакой школой нельзя — что срублено топором…
Космонавт ругал себя: вот-вот поступит с Земли команда о посадке, надо быть собранным до последний нервной паутинки — вдруг придется переходить на ручное управление. И никак не мог оторвать взгляда от вращающегося экрана локатора, по которому вытягивались тушеванными росчерками пожары войны, и приказывал себе вспомнить: откуда писала эта домохозяйка нашему премьеру? «Навязалась на мою голову! — ругал он неведомую женщину. — Бегала бы с авоськой по магазинам — некогда бы… Буржуйка какая-нибудь, а за нее шею намылят. Руководитель полета — мужик крутой, как загнет свое любимое присловье: „Чего же, — скажет, — хрен ты голландский…“»
— Из Дании! Из Дании! — радостно заорал космонавт, забыв, что передатчики включены.
Сидевшие на пульте связи и управления инженеры изумленно переглянулись между собой, и один из них, сжевывающий: в разговоре буквы «Л» и «Р», изумленно спросил:
— Овег Дмитвиевич, что с вами? Вы пвиняви сигнав товможения?
— Принял, принял! Сажусь! Бабенка тут одна меня попутала, чтоб ей пусто было!..
— Бабенка?! Какая бабенка?!
Но космонавт не имел уже времени на разъяснения, и пока там, на Земле, разрешалось недоумение, пока на пульте запрашивали последние данные медицинских показаний космонавта, которые, впрочем, никому ничего не объяснили, потому что были в полном порядке, сработала автоматическая станция наведения, и началась посадка.
Системы торможения включились по сигналу Земли, и изящный легкий корабль повели на посадку, пожелав космонавту благополучного приземления.
Полулежа в герметическом кресле, Олег Дмитриевич смотрел на приборы, чувствуя, как стремительно сокращается расстояние до Земли, мучительно соображая: «Сколько потерял времени? Сколько?..»
Потом было точно установлено — две с половиной минуты и одна десятая секунды. Стоило ему это того, что вместо Казахстанской, обжитой космонавтами, степи, он оказался в сибирской тайге.
Как произошло приземление и где — он не знал. Сильная, непривычно сильная перегрузка вдавила его в кресло, что-то сжало грудь, голову, ноги, дыхание прервалось. Он припал губами к датчику кислорода, но тут его резко качнуло, в ногу ниже колена впилось что-то клешней, и он успел еще подумать: «Зажим! Погнуло зажим».
Потом он действовал почти бессознательно, ему не хватало воздуха и хотелось только дышать. Дышать, дышать, дышать! В груди его хрипело, постанывало что-то, он делал губами судорожные хватки, но слышались только всхлипы, а воздух туда не шел, и последние силы покидали его. Напрягшись всем тренированным телом, уже медленно и вяло поднял он руку, на ощупь нашел рычаг и, вкладывая в палец всю оставшуюся в теле и руках силу, повернул его. Раздались щелчки: один, другой, третий — он обрадовался, что слышит эти щелчки, значит — жив! А потом, уже распластанный в кресле, вслушивался — срабатывают ли системы корабля?
Раздалось шмелиное жужжание, перебиваемое как бы постукиванием костяшек на счетах. Он понял, что выход из корабля не заклинило, и подался головой к отверстию, возникшему сбоку. Оттуда, из этого отверстия, сероватого, дымно качающегося, клубом хлестанул морозный воздух. Земной, таежный, родимый! Он распечатал грудь космонавта. Сжатое в комок сердце спазматически рванулось раз-другой и забилось часто, обрадованно, опадая из горла на свое место, и сразу в груди сделалось просторней. В онемелых ногах космонавт услышал иглы, множество игл, и расслабленно уронил руки, дыша глубоко и счастливо. Наслаждение жизнью воспринималось пока только телом, мускулами, а уж позднее — и пробуждающимся движением мысли: «Я живой! Я дома!»