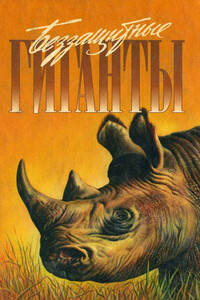Далеко-далеко отсюда в глубокой лесной чаще на невиданной красоты поляне в избушке на курьих ножках жила-была Баба-яга. И не сказать, что баба, — так, простая русская женщина. И не сказать, что в возрасте, — лишь волосы под косынкой растрёпаны и платье не по моде надето. Да ещё горе горькое поселилось в её душе. И уже триста лет никто не мог утешить Ягу.
Но службу свою вечную она не забывала. Сторожила мир мёртвых от мира живых, первый суд душам умерших учиняла, за зверьём и птицами присматривала. Только дело своё по привычке скорее делала, без души совсем. Так душенька болела у бабоньки…
В этом веке, да не в этом году набрёл на её избушку гость нежданный. И перепугал своим появлением избу так, что та шлёпнулась со всех своих куриных ног, а заодно и Ягу уронила. А всё потому, что избушка на курьих ножках уже несколько веков подряд обычных людей-то и не видывала, запах не чуяла. В общем, отвыкла. Вот как пагубно сказывалось затворничество.
Мужчина, да что там говорить — почти добрый молодец, потому как было ему не больше тридцати, посмотрел на то, как избушка в спешке поднимается, почесал затылок, а потом махнул рукой — мол, терять-то уже нечего — и вошёл в избу.
— Что пришёл? Как нашёл? — без приветствия спросила Яга, поднимаясь с полу. И по выражению её лица, и по самой фразе сложно было понять, огорчал её этот визит или, наоборот, радовал.
— Белочка привела… — в некоем смущении произнёс молодец. — Понимаю, что глупость говорю, но так и есть. Лапкой поманила, я и пошёл.
— Вот мужчины распустились, — покачала головой Яга и усмехнулась, — только лапкой их помани — они и идут, даже не спрашивая куда.
— Так как у белочки-то спросишь? — пожал плечами мужчина и слегка улыбнулся.
— Так раз не спросишь, то и нечего ходить за незнакомыми белками! — отрезала Баба-яга, а потом смягчилась: — Ладно, поняла я, что за белочка. Как ты вошёл, на порог села и не уходит, решения моего ждёт. А решение моё будет зависеть от тебя. Так что выкладывай, что у тебя стряслось, только самое сокровенное и откровенное, да и имя своё тоже выкладывай. Я хоть и знаю, но невежливо в дом к даме без приглашения входить, да ещё не представляться.
— Меня Никитой зовут. Фамилия — Селиверстов. А вас как звать?
— Я думала, ты бесстрашный, а ты, оказывается, безграмотный — не понял, к кому в дом пришёл, — обиделась Яга.
— Ну, кому изба должна принадлежать, я, предположим, знаю, — поспешил исправиться Никита. — Однако вы на Бабу-ягу совсем не похожи.
— Конечно, не похожа! — мгновенно завелась Яга. — А как на такие чудовищные описания можно быть похожей? Ты только послушай, — произнесла она и сняла с полки первую попавшуюся книгу: — «Баба-яга через всю избу протянулась: ноги на порожке, губы на сошке, руки из угла в угол, нос в потолок». Или вот… — пошла в ход вторая книга: — «Баба-яга, костяная нога, морда глиняная, на лавке лежит, грудью печку затыкает». Срам-то какой! И как только такое детям читают! Как они, бедняжки, спят потом? А это как тебе? — в руках у Яги оказалась третья книга: — «…Ездит за человечьим мясом, похищает детей, ступа её железная, везут её черти; под поездом этим страшная буря, всё стонет, скот ревёт, бывает мор и падёж; кто видит Ягу, становится нем». Ну, что ты молчишь, Селиверстов? Что не возмущаешься? — грозно добавила Баба-яга. — Может, и вправду онемел? — прищурившись, предположила она.
— Нет, не онемел, конечно, — криво улыбнулся молодец, не зная, что и сказать. — Опешить опешил, это правда. Я и не помню таких описаний.
— А я всё помню. Каждую строчку. Вот писари, их бы я точно съела. Ради красного словца так издеваться в текстах над женщиной!
— Вы что, правда людей едите? — совсем запутался Никита и даже оробел.
— Я ем людей?! Нет, вы только послушайте этого великовозрастного детину. А говорит, не помнит страшных сказок обо мне. Эх, и тебе тоже мозг засорили в детстве всякой чушью. Клевета! Сплошная клевета. Нет! И ещё раз нет! Ты хоть представляешь себе современного человека изнутри? Сплошные канцерогены и консерванты. То химические конфетки жуют невиданных цветов, то полуфабрикатами со столетним сроком годности питаются. Я что, враг себе — есть такую гадость? Ну было когда-то, лет так пятьсот назад. За все века двоих-то и упомню, кого съела. И то за дело! Уж очень вредные оказались. Приняла, так сказать, удар на себя. Людей от небывалой вредности отгородила, в землю вредность не закопала, огню не дала. Короче, всё сама, всё сама. А они своими чернилами доброе дело во зло обратили. Вот журналисты-писари! Уже тогда привирать в текстах стали, чтоб спрос на сказки больше был, чтоб интрига закрученнее. А я до сих пор страдаю, между прочим. И обо мне никто слёзы не льёт. Так что помогать людям я больше не помогаю. Одичали они от своей писанины и прочих увеселений, загрубели, в чудеса верить перестали. Так, подожди, совсем заговорил слабую женщину… Ты-то чего пришёл?