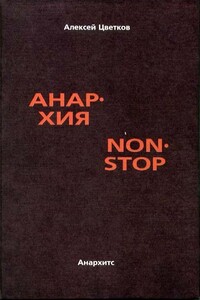Книга Бориса Межуева первоначально звалась просто "Кризис доверия" — и эти слова несли ее смысл стенографически сжато, хотя, пожалуй, и столь же затемненно, как смотрится стенограмма для не посвященных в это письмо. Речь шла, и по-прежнему идет, о доработанном варианте заглавия о ценностном кризисе, врожденно присущем "объединенному миру", где мы живем. На языке структурно-функциональной социологии эту ситуацию можно бы выразить как отсутствие у этого образования действенной подсистемы — за исключением Голливуда, — обеспечивающей ему поддержание паттерна и снятие возникающих и накапливающихся напряжений. Историческая картина, встающая со страниц книги, поражает ухмылкой своей диалектики. Сообщество, уже ряд столетий одержимое процессом Революции — обесценивания и низложения авторитетов и ценностей, — обретает в этом процессе высвобожденную энергию для покорения мира. Но лишь с тем, чтобы заразить этот мир тем же духом революции, теперь уже поднимающимся против самого торжествующего сообщества и против его достоинства и превосходства.
Однако сходная издевательская диалектика глядит на нас и из частных сюжетов отдельных статей. Лидеры признанных миром революционных противоцентров — антагонистов Запада сговариваются в 1970-х с его заправилами о связывании тех антисистемных сил, что способны были бы бросить перчатку "историческому выбору", состоявшемуся по сторонам фронтов холодной войны. А в 2000-х верхушка "объединенного мира", опираясь на идеи ренегатов из троцкистов, пытается оседлать фантом Всемирной Демократической Революции, развернув его против автократий за пределами Запада — и тем самым толкая местных "автократов" в объятия глобальной антисистемщины, маоистской, исламистской, необольшевистской или какой-нибудь иной, новодельной.
Я хочу здесь поговорить о том, чем мне близка книга автора, с которым мы сотрудничаем и спорим уже без малого пятнадцать лет. Прежде всего — заключенной в ней памятью. Памятью о многом, готовом провалиться в расселины исторического забвения, присущего десяткам наших так называемых политологов.
Speak, memory! Я раскрываю страницы "Кризиса доверия" — и рисуется великое разрядочное размежевание с приемами Р.Никсона, Г.Киссинджера и Дж. Форда в Москве и Владивостоке, с "семейными жалобами" Брежнева В.Жискар д'Эстену на зануду Дж. Картера, который надоел генсеку нравоучительными письмами ("За кого он меня принимает?") и с такой же "домашней" репликой в ответ: "Не принимайте всерьез. Он всем пишет. Мне он тоже пишет". С возгласом Мао Цзэдуна в адрес Никсона: "Я люблю правых? Я радуюсь, когда к власти приходят люди справа". Межуев мне как-то говорил, что ребенком воспринимал Форда, мелькающего в новостных программах телевизора, как почти что "зарубежного члена советского политбюро".
Листаю дальше, заглядывая в посвященную мне статью, — и мимолетно прочертится недолгий "новый мировой порядок" Буша-старшего с наметившимся обручем Демократического Севера (включая горбачевский новомышленческий СССР), опоясавшим мир, блокируя попытки геополитических революций. Когда "Буря в пустыне" шла на взбунтовавшийся Ирак под благословение Кремля, Эль-Рияда и Тель-Авива.
Дальше, дальше. 2001-й. "Грянь и ты, месяц первый, Сентябрь!". В рижском казино перед не выключающимся телевизором делаются ставки — который из Близнецов рухнет раньше. В Москве в ушах моих звенят, выплыв из юности, строки: "Как будто спрятаны у входа, / За черной пастью дул / Ночным дыханием свободы / Уверенно вздохнул". Мой кот Леопольд на два месяца превращается в "Усаму-Полосаму", а сослуживец по одной из моих служб — типичная для столицы гремучая смесь идейного либерала и старого дурака — радостно бубнит, что "теперь ужо Буш всех построит".
А вот и 2005-й. Заседание оппозиционного клуба. Голосня, что Путин с его министрами-экономистами падет не раньше, чем через три дня, — уж такой наезд на него в американских газетах, "потому что американцы всех — всех, всех!!! — хотят демократизировать". И "революция у нас будет не оранжевая, а — "березовая" (так и нарываются ребятки на березовую кашу. — В.Ц.), нет, не березовая — "седая" (это в честь пенсионеров, которых в те дни монетизации-социалки прессует "глупая" власть, как-то не смекающая, что сроку ей оставляют три дня).
Память откликается на эту книгу то полупритворной ностальгией ("не остановишь — остановите! — не остановишь!"), то открытой издевкой: как напомнить тем ребятишкам об их голосне меньше чем трехлетней давности? Ведь выпучат очи: да ты, собственно, о чем, друже, о какой такой? березовой?
Но значение книги Межуева для меня вовсе не сводится к радости исторических узнаваний. Глядя на эпохальный сюжет, складывающийся из эпизодов статей, я не могу не задаться вопросом, как человек, с 1990-х работающий над поэтикой историко-политических текстов: кто основной персонаж этого сюжета? Чью судьбу обсуждает автор, излагая и анализируя игрища западной — особенно американской — мысли вокруг чертежей "объединенного мира"? Мне дорог ответ Межуева на этот вопрос. Будь этот ответ другим, книга представляла бы для меня гораздо меньший интерес.