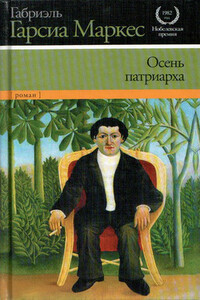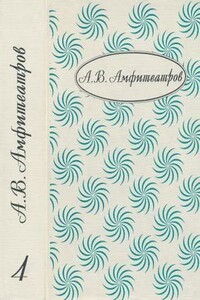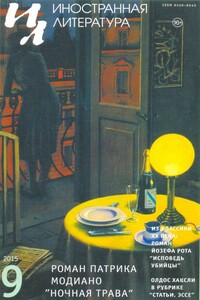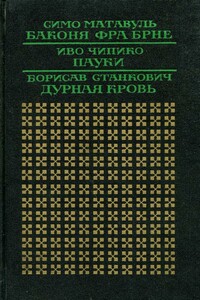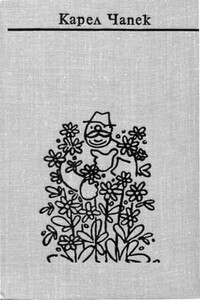Набо — негритёнок, заставивший ждать ангелов
Набо лежал ничком в вытоптанной траве. Он дышал острым запахом конской мочи, натирающим тело словно наждаком. Посеревшей и лоснящейся кожей он чувствовал горячее дыхание склоняющихся к нему лошадей, но самой кожи не чувствовал. Все ощущения исчезли. Удар подковы в лоб поверг его в липкую, тягучую дрему, и сейчас для него существовала только эта дрема — и больше ничего. В ней странным образом переплетались едкие испарения конюшни и тихий мир бесчисленных насекомых в траве. Набо попытался разлепить веки, но снова смежил их, теперь уже успокоившись, вытянувшись на земле и замерев. Он ни разу не пошевелился до самого вечера, когда кто-то за его спиной проговорил: «Пойдем, Набо. Хватит спать». Он поднял голову и почему-то не обнаружил в конюшне лошадей, хотя ворота оставались запертыми. Не было слышно ни похрапываний, ни беспокойного топтания, а тот, кто окликал, находился, должно быть, где-то снаружи. Голос за спиной опять сказал: «Правда, Набо. Ты давно спишь. Ты спишь три дня подряд». И тогда, открыв глаза, Набо вспомнил: «Я лежу здесь, потому что меня лягнула лошадь».
Он никак не мог сообразить, который час. Возможно, прошел день или два с тех пор, как он упал в траву. Цветные картинки его воспоминаний расплылись, как будто кто-то провел по ним влажной губкой, и вместе с ними расплылись вечера тех далеких суббот, когда Набо ходил на главную площадь их городка. Он уже не помнил: в те вечера надевал белую рубашку и черные брюки. Не помнил своей зеленой шляпы, настоящей шляпы из зеленой соломки, и забыл, что на нем тогда не было башмаков. Набо ходил на площадь по субботам, вечерами, и молча усаживался где-нибудь в уголке — не для того, чтобы послушать музыку, а чтобы увидеть негра. Смотреть на негра он ходил каждую субботу. Негр носил черепаховые очки, привязанные к ушам веревочками, и играл на саксофоне, стоя за одним из задних пюпитров. Каждый раз Набо внимательно наблюдал за ним, но негр ни разу не заметил Набо. Во всяком случае, если бы кто-то, узнав, что Набо ходит на площадь ради негра, спросил — не сейчас, конечно, потому что сейчас он ничего не помнил, а раньше, — смотрит ли на него негр, Набо ответил бы, что нет. Это было единственным, что он делал, кроме того, что ухаживал за лошадьми: он смотрел на негра.
В одну из суббот негра не оказалось на привычном месте. Заметив пустой пюпитр, Набо заволновался, но подставку не убирали, возможно, потому, что ожидали негра в следующую субботу. Но и в следующий раз он не пришел, и пюпитра его уже не было в оркестре.
Набо с трудом перевернулся на бок и увидел наконец человека, который с ним разговаривал. Сначала он не узнал его, размытого сумраком конюшни. Человек сидел на краю дощатого настила, отбивая на коленках какой-то мотивчик. «Меня лягнула лошадь», — повторил Набо, пытаясь разглядеть человека. «Лягнула, — подтвердил человек. — Но сейчас здесь нет лошадей, а мы уже давно ждем тебя в хоре». Набо встряхнул головой. Он все еще не мог думать, но уже догадался, что где-то видел этого человека. Набо не очень понимал, о каком хоре идет речь, однако само приглашение его нисколько не удивило, потому что петь он любил и, ухаживая за лошадьми, всегда, чтобы лошади не скучали, напевал им песни собственного сочинения. Кроме того, он пел для немой девочки, развлекая ее теми же песнями, что и лошадей. Девочку мало интересовал окружающий мир, она всегда была погружена в свой ограниченный четырьмя унылыми стенами комнаты мир и слушала Набо, равнодушно глядя в одну точку. Набо и раньше трудно было удивить приглашением в хор, а сейчас и подавно, хотя он и не мог никак понять, что это за хор. Голова гудела, и мысли разбегались в разные стороны. «Я хочу знать, куда делись лошади», — сказал он. Человек ответил: «Лошадей нет, ты уже слышал. А вот твой голос нам бы очень пригодился». Набо внимательно выслушал, но из-за боли, оставленной ударом копыта, едва ли понял его слова. Он уронил голову в траву и забылся.
Набо еще две или три недели ходил на площадь. Несмотря на то что негра уже не было в оркестре. Если бы он у кого-дибудь спросил, что случилось с музыкантом, ему, может быть, и ответили, но он не спросил, а продолжал молча посещать концерты до тех пор, пока другой человек с другим саксофоном не занял пустующее место. Набо понял, что негра больше не будет, и забыл про площадь.
Он очнулся, как ему показалось, очень скоро. Тот же запах мочи обжигал ноздри, а глаза застилал туман, мешающий разглядеть окружающие предметы. Но человек все так же сидел в углу, прихлопывая по коленям, и его убаюкивающий голос повторял: «Мы ждем тебя, Набо. Ты спишь уже два года и не думаешь просыпаться». Набо еще раз на минутку прикрыл глаза и снова открыл их, старательно вглядываясь в маячившее вдалеке лицо. На этот раз лицо было растерянным и грустным, и Набо наконец узнал его.
Если бы мы, домашние, знали, что Набо ходил по субботам слушать оркестр, а потом перестал, мы могли бы подумать — он забыл про площадь потому, что в нашем доме появилась музыка. Как раз тогда в дом принесли граммофон, развлекать девочку. Нужно было время от времени заводить пружину, и самым подходящим для этого человеком оказался Набо. Он легко управлялся с граммофоном, когда ему не нужно было чистить лошадей. Неподвижно сидя в углу, девочка теперь целыми днями слушала пластинки. Иногда, завороженная музыкой, она сползала со стула, все так же глядя в одну точку и не замечая текущей изо рта слюны, и плелась в столовую. Случалось, что Набо поднимал иголку и начинал петь сам. Кстати, придя наниматься в наш дом, он заявил, что поет и умеет делать это лучше всех других дел. Нас тогда не интересовали песни, нам нужен был мальчик для чистки лошадей, но Набо остался, — он пел, как будто мы наняли его именно для этого, и ухаживал за лошадьми лишь в виде развлечения. Так длилось больше года, пока мы, домашние, не свыклись с мыслью, что девочка никогда не сможет ходить. Не сможет ходить, не будет никого узнавать и навсегда останется безвольной и равнодушной куклой, слушающей музыку и глядящей в стену до тех пор, пока кто-нибудь не снимет ее со стула и не перенесет в другую комнату. Мы свыклись с этой мыслью, и со временем она перестала причинять нам боль, но Набо остался верен девочке, и изо дня в день в определенные часы в комнате продолжали раздаваться звуки граммофона. Тогда Набо еще ходил на площадь. И вот однажды, когда он отсутствовал, в комнате кто-то вдруг отчетливо произнес: «Набо». Мы все были в коридоре и в первый момент не обратили внимания на голос. Но и во второй раз отчетливо прозвучало: «Набо!» — и мы переглянулись между собой и удивились: «Разве девочка не одна?» И кто-то сказал: «Уверен, что к ней никто не входил». А другой добавил: «Но ведь кто-то позвал Набо!» Мы вошли в комнату и обнаружили девочку на полу около стены.