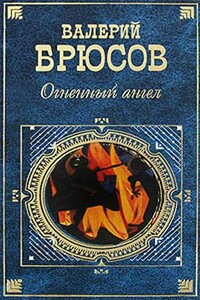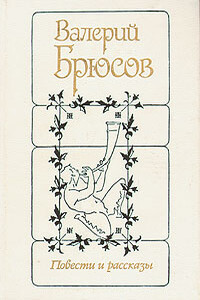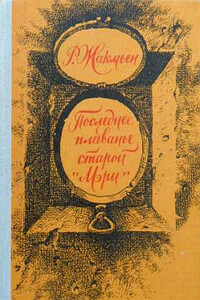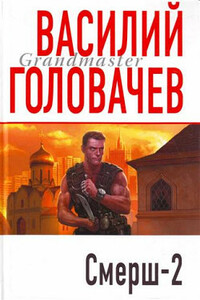Лет двадцать тому назад русская поэзия под влиянием ложно понятых принципов реалистического искусства почти совсем чуждалась фантастики. Поэты как-то стыдились всего, на чем лежал отсвет «романтизма», и во что бы то ни стало хотели оставаться в пределах не только современного, но непременно повседневного. Всем еще памятна борьба, которую повело с этими принципами молодое поколение поэтов, выступившие в начале 90‑х годов. Оно защищало равноправность мечты с так называемой действительностью и в разгар борьбы, как то всегда бывает, даже решительно отдавало предпочтение фантастике. Тогда-то были восстановлены у нас в стихах декорации, столь любезные в свое время романтиком: средневековые замки, причудливые дворцы Востока, пустыни, где еще длится дикая жизнь, и, наконец, просто небывалые, воображаемые страны, сотворенные по произволу, по прихоти поэта.
За пятнадцать лет борьбы новые идеи у нас, как на Западе, одержали победу. Реализм должен был сдать те свои позиции, которые пытался он было занять в 80‑х годах. Но в то же время тем ощутительнее стало, что он все же из числа исконных, прирожденных властелинов в великой области искусства. Стало яснее, что начало всякого искусства – наблюдение действительности, как вместе с тем стали виднее те опасности, к которым ведет безудержная фантастика. В наши дни «идеалистическое» искусство, в свою очередь, вынуждено очищать позиции, занятые слишком поспешно. Будущее явно принадлежит какому-то еще не найденному синтезу между «реализмом» и «идеализмом».
Этого синтеза Н. Гумилев еще не ищет. Он еще всецело в рядах борцов за новое, «идеалистическое» искусство. Его поэзия живет в мире воображаемом и почти призрачном. Он как-то чуждается современности, он сам создает для себя страны и населяет им самим сотворенными существами: людьми, зверями, демонами. В этих странах, – можно сказать, в этих мирах, – явления подчиняются не обычным законам природы, но новым, которым повелел существовать поэт; и люди в них живут и действуют не по законам обычной психологии, но по странным, необъяснимым капризам, подсказываемым автором-суфлером. И если встречаются нам в этом мире имена, знакомые нам по другим источникам: античные герои, как Одиссей, Агамемнон, Ромул, исторические личности, как Тимур, Данте, Дон-Жуан, Васко-де‑Гама, некоторые местности земного шара, как степь Гоби, или Кастилия, или Анды, – то все они как-то странно видоизменены, стали новыми, неузнаваемыми.
Страна Н. Гумилева, это – какой-то остров, где-то за «водоворотами» и «клокочущими пенами» океана. Там есть пленительные всегда «ночные» или вечно вечереющие горные озера. Кругом «рощи пальм и заросли алоэ», но они полны «мандрагорами, цветами ужаса и зла». По стране бродят вольные дикие звери: «царственные барсы», «блуждающие пантеры», «слоны-пустынники», «легкие волки», «седые медведи», «вепри», «обезьяны». По временам видны «драконы», распростершиеся на оголенном утесе. Есть там и удивительные камни, которые ночью летают, блестя огнями из своих щелей, и сокрушают грудь своих врагов. Герои Н. Гумилева – это или какие-то темные рыцари, в гербе которых «багряные цветы» и которых даже женщины той страны называют «странными паладинами», или старые конквистадоры, заблудившиеся в неизведанных цепях гор, или капитаны, «открыватели новых земель», в высоких ботфортах, с пистолетом за поясом, или царицы, царствующие над неведомыми народами чарами своей небывалой красоты, или мужчины, «отмеченные знаком высшего позора», или, наконец, просто бродяги по пустыне смерти, соперничающие с Гераклом. Тут же, рядом с ними, стоят существа совсем фантастические или, по крайней мере, встречаемые весьма редко: «угрюмые друиды», повелевающие камнями, «девушки-колдуньи», ворожащие у окна тихой ночью, некто, «привыкший к сумрачным победам», и таинственный скиталец по всем морям, «летучий голландец». И удивительные совершаются в этом мире события среди этих удивительных героев: рыцарь принимает вызов девы-воина и своим последним стоном приветствует победу врага; царица, при взятии ее города, ставит на людной площади ложе и на нем, обнаженной, ожидает победителей; добрые товарищи-собутыльники собираются ехать в путешествие, непременно в Китай, и выбирают капитаном метра Рабле; наконец, изумительный раджа ведет своих парсов на завоевание крайнего севера и там, во льдах и снегах, где виднеются лишь глубокие следы медвежьи, создает царство мечты, в котором белая заря слепительнее, чем в Бирме, и т. д.[1]
Такова поэзия Н. Гумилева, поскольку она отразилась в его книге «Жемчуга», разделенной на три отдела: жемчуг черный, жемчуг серый и жемчуг розовый. Еще больше чудес найдем мы во второй части книги, где собраны более ранние стихи поэта (1906–1908 гг.), изданные прежде в Париже под характерным заглавием «Романтические цветы». В этих «Романтических цветах» фантастика еще свободнее, образы еще призрачней, психология еще причудливее. Но это не значит, что юношеские стихи автора полнее выражают его душу. Напротив, надо отметить, что в своих новых поэмах он в значительной степени освободился от крайностей своих первых созданий и научился замыкать свою мечту в более определенные очертания. Его видения с годами приобрели больше пластичности, выпуклости. Вместе с тем явно окреп и его стих. Ученик И. Анненского, Вячеслава Иванова и того поэта, которому посвящены «Жемчуга»