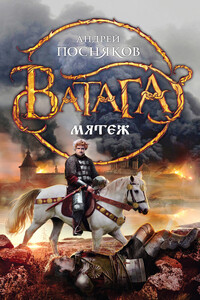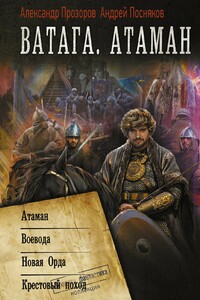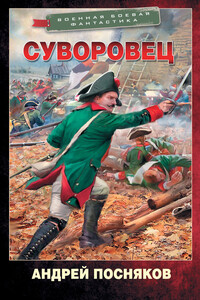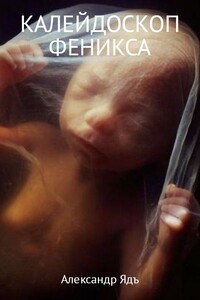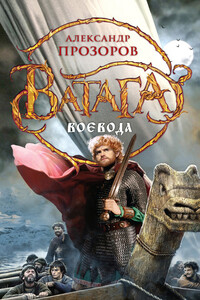Глава первая
Лето 1418 г. Великий Новгород
Бунт
Темно-сизая злая туча, громыхая, нависла над городом, словно огромная, невесть откуда взявшаяся нечисть. Повисла, едва ль не зацепившись нижним краем своим за каменные башни Детинца, глухо, с угрожающим гудом ворочалась, щетинясь синими молниями. Вот одна ударила куда-то на Щитную, угодив в чью-то усадьбу, вмиг заполыхавшую пламенем, и снова сверкнуло – на этот раз над Прусской улицей, аккурат меж церквями Михаила и Вознесения, – на этот раз, слава богу, угодила в землю, в мокрую от дождя кручу, густо поросшую малинником и смородиной.
На Торговой стороне, в деревянной, с высокой маковкою, церкви Святого Саввы, что близ Московской дороги, перекрывая гром, всколыхнул грозовое марево уличанский набат, поддержанный колоколами других храмов. Не малиновым звоном тянулись ныне, били грозно, заполошно, отрывисто, словно бы кричали что есть мочи:
– По-жар! По-жар! Выхо-ди-и!
Жители ближних усадеб со Щитной давно уже выскочили, едва почуяли запах дыма; услыхав набат, к ним присоединились и соседи – с Конюховой улицы, с Молотковой, с той же Большой Московской дороги, что тянулась через весь город, через всю Торговую сторону, от загородного Косого моста до Федоровского ручья, впадавшего в сумрачно-серый, игравший нешуточною волною Волхов.
Мужички действовали споро, не обращая внимания ни на дождь, ни на тучу – город-то деревянный, каменные, почитай, одни стены да храмы; полыхнет – выгорит враз, мало никому не покажется! Вот и торопились – выстроившись в ряд, передавали друг другу кадки с водою из Федоровского ручья, пытались сбить огонь, поливали и соседние ограды, а кое-кто уже лихо раскатывал на пылающем дворище амбары, кои готово уже было вот-вот объять ненасытное пламя.
– Давай, давай, робяты-ы-ы! – надрывно кричал какой-то чернобородый мужик, босой, в разорванной на груди рубахе, как видно, хозяин горевшей усадьбы. – Наддайте, соседушки, у-ух! Подсобите… Век буду Бога молить! Подсобите!
– Ничо, дядько! – обернувшись, утешил один из парней с багром. – Мастерская-то у тя не сгорела, ага!
– Да не сгорела…
– Вот и выживешь! И избу себе к осени новую сладишь. Домочадцы-то живы?
– Да слава Господу.
– От то-то и оно – слава!
Оба перекрестились, покосились на тучу, еще громыхавшую, еще огрызавшуюся синими сполохами молний, но уже мало-помалу уползавшую за город, на Хутынь.
– Слава те, Господи! Кажись, утихает.
– Да и пожар-от – потушили почти! А ну-тко, други, навались! Еще вона, на забор поплескаем. Тяните кадки-то, ага!
– Ох, спаси вас Бог! Ой, горе мне, горе… горе лютое-е-е!
Хозяин наполовину выгоревшей усадьбы в полной растерянности своей не ведал сейчас, что и делать: то ли горевать, что почти все добро пропало, то ли, наоборот, радоваться, что и сам спасся, и семья… да и мастерская вон – целехонька… Крыша едва дымится, ага…
– На крышу, на крышу плескай, мужички! Ох, спаси вас, Господи!
– А как же, дядько?! – Бросив багор, парень – тот самый, утешитель недавний – хлопнул по плечу погорельца. – Тя как звать-то?
– Федот. Онцифера Лютого сыне.
– Щитники вы?
– По столярной части – рамы для щитов ладим.
– Я-асно. – Парень вскинул голову, провожая взглядом уходившую на глазах тучу. – А меня Ондреем кличут. Эх, Федоте, хорошо, что кругом тут люди простые живут, не какие-нибудь там бояре – уж от них-то ты помощи не дождался б!
Погорелец неожиданно засмеялся:
– Да и бояре, я чай, помогли бы – все одно вместе гореть! Боярин ты, аль заморский гость, аль голь перекатная – пожар-от не разбирает, огнищу-то все равно… А ты говоришь… Ой! Паря!
Федот вдруг замолк на полуслове, удивленно хлопнув глазами:
– А не тебя ль вчерась на Ивановской площади плетьми похотели посечь? Говорят, ты народ подзуживал…
– Нет, не меня, – как-то поспешно отвернулся Ондрей. – Просто похожего. Не знаю уж, кого он там подзуживал. Не меня, верно. Обознался ты, дядько Федот! Обознался…
– Да не мог я… У меня глаз наметан! Да и ты приметен вельми.
И правда, Ондрея-то этого раз увидишь – вряд ли уж и забудешь: сам из себя парень так себе – худоват, сутул, а лицом красив, басен: кожа белая, волосы да бородка курчавые, светлые, вот ежели б еще не прыщи да не глаза, нехорошие глаза, недобрые – темные, как у цыгана, из-под бровей сверкают, ровно угли! И говорит… говор-то местный с московским мешает, не «ишшо» говорит, а по-московски – «исчо», не «зацем, поцему», а – «зачэм, почэму» – чужак, верно.
– Ты, я чаю, Ондрейко, не наш? Из каких местов будешь?
– Новгородец я! – Парень, казалось, обиделся, оглянулся нервно, недобрым глазом сверкнув. – Из деревской пятины, ага.
– Из деревско-ой…
– Ой, дядько Федот, глянь-ко! К мастерской-то твоей прошмыгнул ктой-тось! А ну-ка – тать? У тя замок-то заперт?