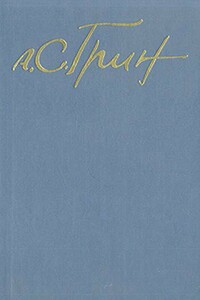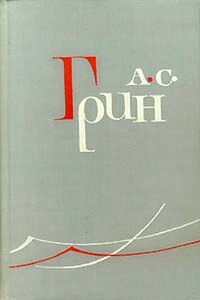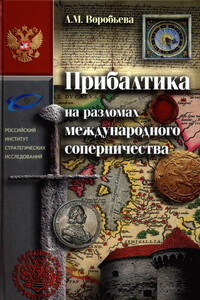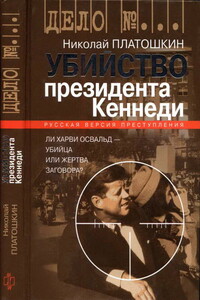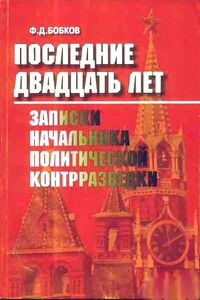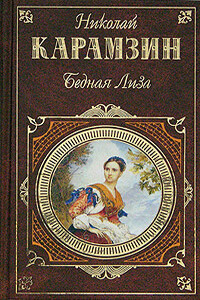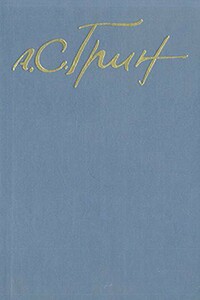Дорога из Престидэя в Нум раздваивалась наподобие змеиного языка около морского залива. Налево она вела в Нум, направо — в Лемпшир.
На раздвоении дороги плохо одетый человек с истощенным лицом замедлил шаги и, слегка раскачивая ручным саквояжем, начал оглядываться, ища прохожих, которые могли бы рассеять его сомнения. Вскоре он увидел человека могучего сложения, мрачного, в бакенбардах, который неторопливо шел в Престидэй, и обратился к нему с вопросом:
— Налево или направо надо идти, чтобы попасть в Нум?
— Конечно, налево. За теми холмами Нум. Четыре километра, и вы на месте. Увидев вас, я сразу сказал себе: «Он не здешний». И я, кажется, угадал?!
При этом проявлении общительности внушительная мрачность болтуна утратила нечто неуловимое, делавшее ее солидной; глаза блеснули, выдав сплетника; несвойственное возрасту любопытство смягчило мрачные черты и, нервно опершись о палку, человек умильно захлопал веками.
— О, да, вы угадали, — ответил путник. — Следовательно, я должен идти налево?
— Я знаю всех в Нуме, — продолжал любопытный бакенбардист, пропуская уклончивый вопрос мимо ушей. — И если вы сообщите, кого именно желаете там видеть, то я подробно объясню, как найти дом. Нум разбросан, очень разбросан. Мое имя Вильям Угестон, из Престидэя, — домовладелец, а также управляющий конторой погребальных шествий.
Молодой человек без особой охоты наименовал себя:
— Том Дарль, из Гертона, — и сообщил, что ему нужен Тристан Бурль, бывший нотариус.
— Бурль?! — воскликнул Угестон. — Хорошо, ваше счастье, что вы, как мне кажется, опоздали! Ведь объявление напечатано уже дней десять назад! Впрочем, оно со мной.
Пока Дарль молча смотрел на него, Угестон в приливе общительности расстегнул пиджак и извлек объемистый бумажник, набитый газетными вырезками. Поспешно разыскав одну вырезку, Вильям Угестон показал ее Дарлю.
— Мы с вами говорим об этой штуке, не так ли? — спросил Угестон, давая Дарлю прочесть текст.
— Да, — ответил, помолчав, Дарль. Еще помолчав, он прибавил: — Действительно, это самое объявление я имел в виду, направляясь к Бурлю.
— Каков изверг?! — воскликнул Угестон и пристукнул палкой. — Это негодяй, тиран! Его дочь стала женой бедного секретаря, служившего у директора консерватории в Гертоне, и Бурль, представьте, отказался ее видеть, восстановил директора против мужа дочери, лишил беднягу места, а сам, старый печеночник, мстительный ипохондрик, выдумал для себя вот это самое развлечение. Он стал нанимать секретарей для того, чтобы их мучить. Его ненависть к секретарям вообще — достигла силы… я бы сказал: внушительности похоронной процессии в пятьсот долларов.
Объявление, тщательно спрятанное Угестоном в бумажник, было напечатано неделю назад «Биржей Престидэя» и гласило следующее:
«Тристану Бурлю нужен секретарь, образованный человек, шатен сухого типа, с серыми глазами, умеющий быстро писать под диктовку и точно исполнять поручения, одинокий, опрятный, скромно одевающийся. Жалованье 225 долларов ежемесячно, стол и комната, ежемесячная прибавка 25 долларов. Непременное условие: в присутствии Тристана Бурля — молчать. Молчать безусловно, категорически, не произнося ни единого слова, ни даже восклицания. В противном случае, если бы даже нарушившее это условие лицо и прослужило шесть месяцев, оно лишается всех заработанных денег, которые уплачиваются по истечении полугодия».
— Надеюсь, я не опоздал, — сказал Дарль, — так как найдется мало охотников служить такому сумасброду. Мало найдется также шатенов сухого типа с серыми глазами вроде меня. Молчать я умею. Я скажу прямо — люблю молчать. Итак, дорога налево?
Подтвердив свое указание, Угестон хотел взять Дарля за пуговицу жилета, чтобы набросать ему огненными чертами портрет злодея Бурля, но будущий секретарь, приподняв шляпу, ударился шагать так широко и быстро, что Угестон, рассеянно осмотрев небо и землю, подобно кошке, у которой из-под носа улетел воробей, гордо закинул голову и направился к Престидэю, острые крыши которого виднелись из-за холмов.
В тот день Тристан Бурль, человек пятидесяти девяти лет, страдающий одышкой, печенью и подагрой, был особенно мрачен, даже свиреп, так как видел во сне дочь, Леону, и безумно ревновал ее к ее мужу, ненавистному нищему секретарю Сивилю Брентгаму. Его утешало лишь то, что директор консерватории Льюис Терн уволил Брентгама, одновременно делая уступку свирепому клянчанью Бурля и своему личному чувству, потому что был сам неравнодушен к Леоне Бурль, девушке красивой и милой. Бурль любил дочь сильно, но примириться с ней не мог. Слово «секретарь» бесило его. Бурль прочел восторженное письмо Леоны, разорвал его, прекратил высылать деньги и написал дочери, чтобы она забыла о нем навсегда. Через неделю начал он стороной наводить справки о ее жизни в Гертоне, но узнал, что Брентгамы куда-то выехали и адрес их затерялся.
Страшно разозлясь, что дочь не написала ему второго письма, противоречивый старик «уткнул подбородок в галстук ненависти» и засел как паук в своем доме, поджидая секретарей-мух, чтобы мучить их, согласно обещанным в объявлении пыткам. Его врагами стали все секретари мира, но — в особенности — секретари тридцати лет, сероглазые «шатены, сухого типа», как описывала ему Леона Бурль Брентгама.