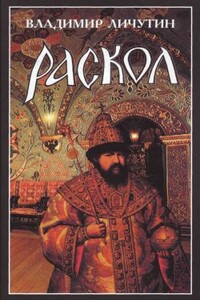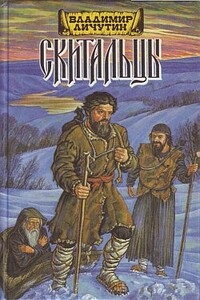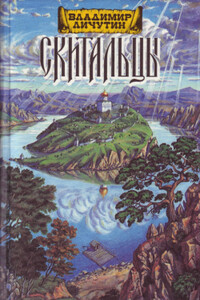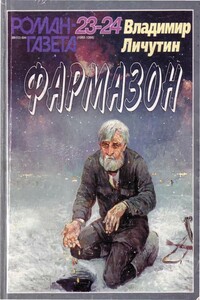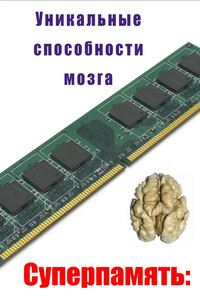Иван Жуков, что из поморской деревни Жуковой, решил стать евреем. Это странное желание внезапно обожгло мужика, когда впервые он увидел в телевизоре Горбачева с кровавым пятном на покатом лбу, похожим на кенгуру. Не бестия пришел во власть, не прожженный делец, не прохиндей, каких не сыскать во всем белом свете, не ловелас, что ради бабьей юбки готов променять отчизну, но самый-то заурядный человеченко с дьявольской метою на лице, продавший душу свою за тридцать сребреников, пред которым сам бы Иуда стал святой невинной простотою. Обитатели коммуналки, коротавшие вечер у экрана, отупели от карамельной улыбки генсека, его сытых похохатываний, от намасленного лба и отлакированных глаз, в которых читалась бездна. И этот лицедей, скоро окутав несчастных в кокон вязких словес, показался таким свойским, рубахой-парнем, таким любушкой, почти кумом и сватом, у которого всякое слово непременно обернется манною небесной, что люди одурели от свалившегося на них счастия. И жар-птица, о которой так мечталось с революционной поры, внезапно прилетела из-за синего моря, нырнула в их домашний курятник и, погомозившись, растолкав сонных хозяек, прочно уселась на ночевую. Вот уж будет отныне на Руси золотых яичек, не перекокать их, не перекатать и не перекрасить. Нет, пришел к власти не профурсетка какой, не самозванец из-за горы, не хрен с чужой яишнею, не ловыга и не чернильная душа, окаменевшая за суконным столом, безъязыкая, как великий немой, но такой ловкий на язык, речистый, с прихаханьками хозяин, с каким станет уютно и весело, как за каменной стеной. И все сидящие обрадели, вспотели от нагрянувшей благодати, размечтались, какая вольготная жизнь наступит, и каждому-то станет по крыше над головою. Ах, мечты-мечты коммунального бедолаги, покорного, как трава летошняя под бревном, коего уж объели комодные шашели, кухонные тараканы и мышки-домоседки, вечные обитательницы угрюмого коридора, пропахшего капустой и котами. Жильцы по-детски обрадовались, словно удачно уселись в сумку кенгуру; они искренне смеялись, будто их щекотали в носу лебяжьим перышком. И надоедно бы, но приятно! Жуков отчужденно, почти ненавистно взглянул на соседей по квартире, и ему почудилось, что на шеи несчастных, опоенных дурман-травою, ловко так натягивают намыленные петли, а люди всхлипывают от счастия, еще не сознавая, что за ними уже пришла смерть.
«Какой он милый, этот Миша. Он просто обаяшка, какая прелесть. И как говорит, без бумажки, уж не запнется. Наш он, наш человек, и образованный», — шепелявила беззубая бабуля, бывшая учителка, и ее желтые, как слюда, обычно блеклые глаза по-за круглыми очочками источали голубое пронзительное сияние. Старбеня поймала на себе чужой догляд, взглянула на Жукова как на врага; Жуков услышал жалящий укол шпаги куда-то в мозжечок и на мгновение потерял разум. Иль ему почудилось лишь? Побарывая дурноту, он приткнулся к приоткрытой форточке, чтобы хватить свежего воздуха. Но его окатило прогорклой терпкой гарью: внизу ровно, ошалело гундело Садовое кольцо, погребая в своем удушливом тумане всякое доброе чувство.
С экрана вещал Горбачев: «Жизнь переменится к лучшему, если переменится человек. Оттого, переменится-нет человек, и будут перемены».
«Все верно… На месяц две бутылки выдали, а он за один присест выжорал, прорва. Нет, Горбачев из вас людей исделает, он не даст вам передышки. — Тетя Нюра устало пихнула высокого костистого скобаря в плечо. Майка сползла, обнажив ледащие мяса с синими жгутами жил. — Посмотрите, на кого похож! — воззвала в пространство уже тысячный, наверное, раз. — Огоряи, пьянь, им бы только кишки нажечь, там хоть трава не рость. У, ско-ти-на, — снова толкнула в бок мстительным кулачком, увядшие губы стянулись в сморщенную гузку. — В чем душа только, одна шкура. Лопнет шкура, и душа вон. Не ест, глот. Хоть бы война началася, что ли, дак забрали бы и убили. Слушай, тебе на добро человек толкует. Взять бы все вино да слить бы куда ли в одну дыру, и всех вас вместе связать веревкой, да туда же, в тартары, Господи, прости дуру…»
На бабу зашикали: мешала внимать вещие слова и посулы. Боль в затылке схлынула, как наваждение, и тут Иван Жуков впервые туманно подумал, подсмеиваясь над собою, неудачником: «Коли сынок Люцифера велит перемениться, так извольте-с. А не стать ли мне, братцы, евреем? Никакие перемены не страшны, никто не гнетет, сам себе пан. На любом навозе — роза. Счастливый же народ, куда-то стремится без угомону, пусть и бестии продувные, но лаптем щей не хлебают, мимо уса не пронесут. Веселый народ. Всякую личную затею скоро ставят на государственный лад, а общее дело сворачивают на себя. Они мне не дадут пропасть. Только щелку найди да пропехнись, и лады, Ванька. Осталось с печи прыгнуть да подпоясаться… А что Москва? Москва меня не держит. Не медом намазана. Одна видимость жизни. Опухоль, истекающая гноем, поедаемая червием. И сколько трутней вьется, за ними и пчел не видать. Огромный шнек мясорубки, вроде бы движется, без устали перемалывает уйму свежих прибылых сил, а все остальное — в труху, в отходы. Только видимость, что движется. И я в труху, если промедлю. Бежать! Сюда хорошо въезжать на белом коне… Миша молодец, он дал верное направление мысли. Поветерь мне в спину, и да здравствует воля».