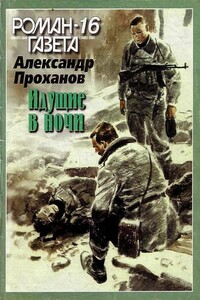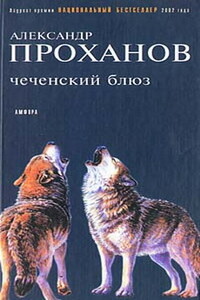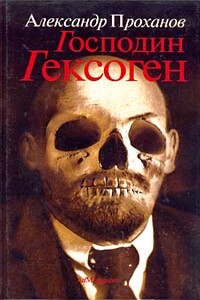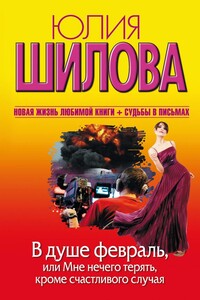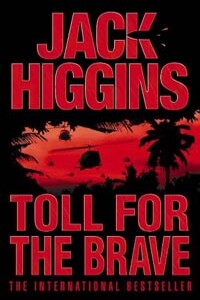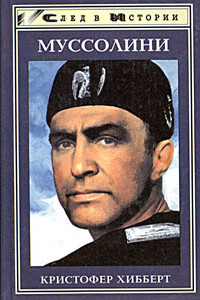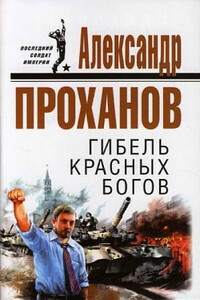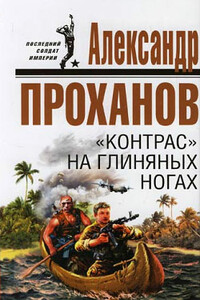Праздность – медленная, тягучая продолжительность московского летнего дня с белесым утренним солнцем, зажигающим болезненно-бледное пятно на старых обоях, где висит обломок иконы, обугленной в давнишнем пожаре. Больше шума, колючего сверкания, литого блеска машин. Скопились у светофора, теснятся, давят, мигают зло желтыми боковыми огнями. И словно открыли перед ними запруду – льются, торопятся, трутся боками, глянцевитые, скользко-упругие, как жуки-плавунцы. И в воздухе после них повисает прозрачная фиолетовая гарь, сквозь которую бежит сосредоточенная московская толпа, из подземелья в подземелье, из одних стеклянных дверей в другие, из одного времени года в другое, из века в век. Весь день на огромном перекрестке что-то сталкивается, вспыхивает, плавится, окутывается светящимся газом, блестит, сжигает кислород бледного высокого неба, в котором слепо горит реклама. От этих бесчисленных столкновений, слепящих вспышек, монотонных миганий рекламы возникает ощущение слепоты, огромной выжженной пустоты, в которую превращаются чувства и мысли. После смерти, после стоцветной, ярко прожитой жизни останется выгоревшее пятно бесцветного небытия. Вечер похож на окалину, медленно остывающую на красных от вечернего солнца домах. По этим красным асфальтам, из красных в красные двери, из красных в красные автобусы бежит толпа, множество мелькающих, красных, как у косцов, лиц, на которых не разглядеть выражения, а только особое московское утомление после душного дня, улетающего, как видение туманных мостов, церквей, небоскребов. Вечер, смуглый, бриллиантовый, непрерывное скольжение нарядных автомобилей, брызгающих на фиолетовый асфальт прозрачными пучками огней, словно несут перед собой стеклянные кувшины света. Тверская в золотых витринах, в голубых планетах и лунах реклам, в драгоценных гирляндах, опутывающих ветви деревьев. Женщины похожи на птиц в райском саду. Возле них останавливаются лимузины. Птицы, колыхая разноцветными перьями, бегут на манки ловцов, впархивают в дверцы машин, и их увозят, легкомысленных и счастливых. Долго за полночь шелестит и мягко рокочет город, брызжет огромное ночное солнце казино, плещет многоцветным водяным букетом фонтан, и где-то в нагретых гранитных теснинах, невидимый, сладкозвучный, играет саксофон, словно течет медленная и горячая струя смолы. Праздный день завершен, сквозь шторы бесшумная, в два цвета, мигает реклама, посылая в мироздание беззвучный, безответный сигнал тревоги. И странная мысль: «Это я… Живой… После долгой прожитой жизни прожил еще один, необъяснимый, наполненный тончайшей болью день…»
Отставной генерал разведки Виктор Андреевич Белосельцев не находил в себе сил оставить душную Москву и уехать на дачу, где ждал его заросший, запущенный сад, тихие труды в цветнике среди серьезных оранжево-черных шмелей, сладких табаков и засахаренных бутонов роз, когда на жестяном совке чернеет сочный ком и в нем извивается скользкий розовый червь. Он не мог уехать, пораженный необъяснимым бессилием, нежеланием менять свое положение в пространстве, будто ждал, что сверху, из горячего неба, прольется на него прозрачная струя канифоли и он застынет в ней на веки вечные, раскинув свои высохшие руки, склонив к плечу седую голову. Это ожидание напоминало паралич, отнимавший способность двигаться, шевелить пальцами, вращать глазами, сжимать и расширять легкие. Жизнь была неинтересна, состояла из мельчайшей пудры, в которую превратились его жизненные впечатления, усвоенные науки, прочитанные книги, человеческие отношения и дружбы, сама страна, которой он, профессиональный разведчик, служил до последних минут ее существования, пока она, огромная, как красный леденец, не растаяла, не потекла липким соком, сжатая чьим-то огромным, потным, омерзительным кулаком.
Иногда, чтобы разнообразить безделье, развеять сонную одурь, он включал телевизор. Но оттуда, из голубоватого студня, из дрожащего желе, как из заливного, начинали выпрыгивать уродливые рыбины, губастые и носастые чудища, пучеглазые щетинистые твари. Морочили, пугали, тянули клешни, тыкали в глаза обрубками конечностей, норовили схватить волосатой лапой или пнуть мозолистой голой стопой. Белосельцев, послушав и посмотрев минуту, выключал телевизор, загонял обратно в пластмассовый застекленный короб несметное сонмище, которое из ящика через огромную шахту скатывалось обратно в преисподнюю, в жилище тьмы.
Среди мелочных бессмысленных дел: приготовления пищи, стирания белья, принятия пилюль, подметания комнаты – было одно занятие, к которому он прибегал, спасаясь от изнурительного пустоцветного бытия, где любое событие, любой звук или знак являли собой глупую мелочь, бессмыслицу, оскорбительную незначительность, за которую не цеплялся ум, которую отторгала душа.
Три стены в его длинном, как пенал, кабинете занимала коллекция бабочек. Стеклянные кристаллы, в которые, как в бруски драгоценного льда, были вморожены разноцветные дива, вычерпанные легким сачком из воздушных потоков Африки, океанских ветров Америки, лесных дуновений Азии. Привезенные в Москву с театров военных действий, среди московских снегов, ночных черных наледей они повествовали о иной земле, молодой, сотворенной Богом планете, которую Господь облек в наряд из цветов и бабочек. Это позже сквозь нарядное облачение стали взлетать ракеты, пикировали самолеты, протыкали драгоценный наряд небоскребы и башни. В Никарагуа он толкал с сандинистами залипшее в грязь орудие, проволакивал его по скользкой дороге, на которой сидели мириады розовых бабочек. В Атлантике на их боевой корабль, доставлявший в Анголу морскую пехоту, сели белые бабочки, и вся палуба, бортовые орудия, глубинные бомбометы, штыри и чаши антенн были покрыты белыми хлопьями, словно корабль, приближаясь к экватору, заиндевел, укутался шубой голубоватого инея.