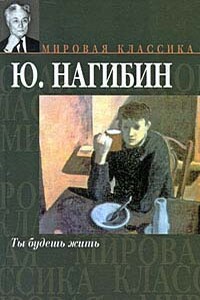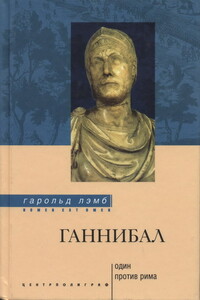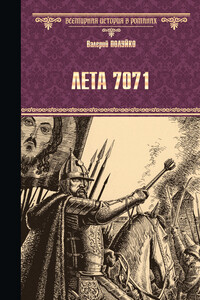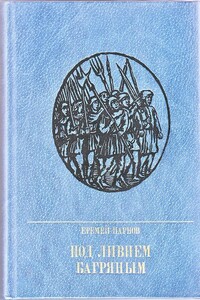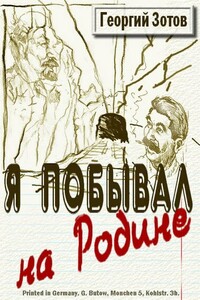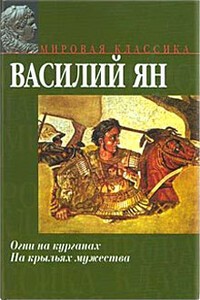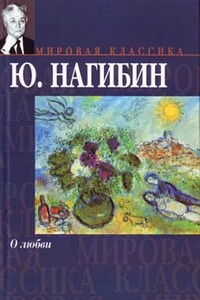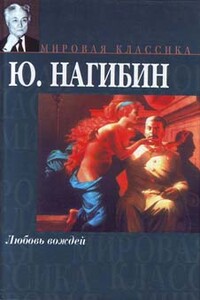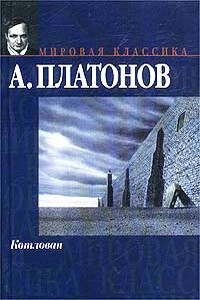Рассказ
Как полагается, в преданиях все это обрело притчевый лад, стало наглядным уроком смирения. Иначе и быть не могло. Каждый его жест, каждое слово были перетолкованы в поучение, что не лишено основания. Он не мог растрачиваться на свободную игру чувств, слишком мало времени было ему отпущено, — пойди вырасти урожай новой веры на каменистой, сухой, неплодной почве дремучих душ. Но сейчас было другое, ему хотелось прикоснуться к человеческой плоти, в близости страшного исхода ему вспало, как мало телесного было в его жизни.
Сильно и нежно помнились ему ласковые крепкие руки и круглые колени Матери. Смутно, то ли истинным детским воспоминанием, то ли мнимой, навязанной ему окружающими памятью виделся единственный товарищ его ранних лет, брат в каком-то колене Иоанн, серьезный, красивый и печальный, немного старше его. Неужели он провидел свою судьбу, что голова его с закатившимися глазами будет подана на золотом блюде блудной Иродиаде? Наверное, так подробно он этого не знал, но знал, что будет страшное, и потому никогда не улыбался, тихий, сосредоточенный в себе, приветливый мальчик. Но ведь и ты никогда не улыбался, потому что тоже знал, что в конце будет страшное. Блаженны неведающие… Как скромны и тихи были их редкие игры. Они не возились, не боролись, не барахтались, как все мальчишки. Иоанн что-то искал в траве, потом приносил цветочек, и вы молча внимательно его рассматривали. И ты в свой черед находил камушек или мертвую бабочку и нес находку другу. И снова шло безмолвное, задумчивое лицезрение. Вы не знали названий этих цветов, травинок, насекомых, но почему-то не спрашивали своих матерей — Марию и Елизавету — об именах малых мира сего. Лишь раз попался цветок, напоминающий формой крест, ты видел такой в руках у Матери, когда еще не умел ни ходить, ни говорить и жил у нее на коленях. Слово «крест» входило в название, но ты не вспомнил.
Мать поздно спустила его с рук на землю, словно боялась, что он уйдет и потеряется. Он и ушел в свой час, без сожаления и печали, как уходил от всех ради ждущих впереди. Лишь тем двенадцати, которым он сегодня вымоет ноги, позволено было следовать за ним. Одних он сам позвал, другие напросились в спутники, третьи были ему вверены.
А с Иоанном они встретились через много лет, когда тот стал рослым, стройным мужчиной с прекрасной лохматой головой; его крупное тело было закутано в плащ из грубой верблюжьей шерсти, дыхание отдавало диким медом и травами, он проповедовал людям о скором приходе Мессии и крестил их в Иордане. Иисус пришел к нему из Галилеи принять святое крещение. Что-то отстраняюще щепетильное было в смирении, склоненности Иоанна перед ним, и это пресекло возможность доверительного тона старой дружбы. Пришлось удовольствоваться негреющим жаром встречи Мессии и его пророка.
Мысль соскользнула с Иоанна, Иисус вспомнил сестер Марфу и Марию, в чьем доме он находил приют. Они омывали его усталые ноги, мазали миром голову. Особенно приятны были прикосновения легких, внимательных, никуда не спешащих рук Марии. А Марфа, всегда не успевавшая по домашности, вечная хлопотунья, омывала ноги, будто миску споласкивала после еды.
Другая женщина, тоже именем Мария, омывала ему ноги слезами и вытирала своими пышными мягкими рыжими волосами. Она была блудницей среди людей, но что ему до этого? Раз на дороге она припала к его ногам, он наклонился и тронул ее за плечо и в этот миг забыл себя и свое предназначение. Хотелось зарыться в ее рыжие, с бронзовым отливом волосы и остаться там навсегда.
Сам он редко касался человечьей плоти, разве что исцеляя прокаженных, изъязвленных, параличных, бесноватых или оживляя трупы, но физической радости эти прикосновения не доставляли.
Телесность жизни — вот чем он был обойден. Одинокие странствия по каменистой пустыне и пыльным дорогам, удаление от мира, мучительные искусы, проповеди и поучения, бездомность — лисицы имуть норы, птицы небесные — гнезда, а Сыну человеческому негде преклонить голову, — все это уводило от густого человечьего тепла в стылую пустоту бестелесности. Он трогал жизнь не перстами, а словом. И как прекрасно было, когда вдруг, устав от бессилия взываний, он схватил плеть и отхлестал торгашей, раскинувшихся в храме со своими товарами, выгнав их вон. Хорошо погуляла треххвостка по жирным спинам и плечам.
И чудесно вспомнить, как на белой ослице он спускался с иерихонской кручи после сорокадневного искуса, легкий, словно бы хмельной от голода, ободравшего его плоть до тонины осеннего листа, и чувствовал худыми лядвиями крепкие шелковистые бока ослицы, а седалищем — твердый круп. Он сидел, сильно откинувшись назад, иначе ослица повалилась бы с отвесной пади, по которой извивалась узенькая тропка. Она так наклонилась, что он видел лишь холку и кончики ушей, но не видел головы; порой казалось, что он пребывает в свободном падении — парении, и это оборачивалось предчувствием будущей невесомости, а ему хотелось совсем иного — тяжести плоти. И он обрадовался, когда в изножий склон стал менее крут, а там и вовсе — пологим, тропка расширилась и в правую ногу ему заколотился лопаткой сынок ослицы, трусивший на круче сзади. Иногда он тыкался в него мягким носом, и радостно было слияние с плотью жизни.