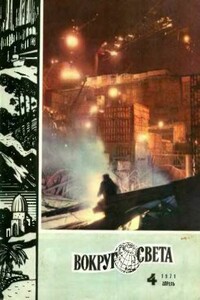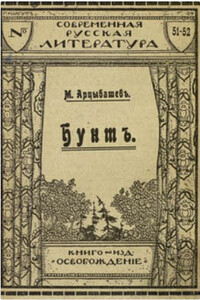Когда под утро меня будит страх, я открываю глаза в четыре часа с тревожным ощущением, что снова проспал: отец уже оделся, он ждет меня внизу, за окошком мне видятся неясные фигуры, — я вскакиваю, ищу шерстяные носки, лихорадочно вспоминаю какие-то важные слова, затерявшиеся, стершиеся в полусонном мозгу, — под ногами у собравшихся возле дома людей хрустит подернутая ледком земля, они нетерпеливо притопывают сапогами, дышат в ладони, согревая руки, сейчас о стекло ударится камушек, еще один… надо крикнуть, что я уже встал, крикнуть… кому? За окном темно, на город навалилась ночная тишина, но отец — отец меня ждет, ведь лодка… голова постепенно проясняется… Лодка?
Лодки, беспокойно пляшущие у пирса, далеко… очень далеко…
Я просыпаюсь окончательно. Теперь только окурки в переполненной пепельнице тревожат приутихшую мертвую память. Серые трупы в холодном пепле. Я закуриваю сигарету, но торопливые вспышки еще резче высвечивают этот застывший склеп. Мне страшно оставаться наедине со смертью, я встаю с кровати, зажигаю свет, полностью откручиваю в ванне оба крана и под бойкий плеск разлохмаченной струи равнодушно и с неохотой, но шумно умываюсь. Потом одеваюсь, спускаюсь по лестнице и иду в ближайшее ночное кафе.
До кафе около мили, и зимой, когда морозит, я часто вхожу в зал со слезящимися глазами. Официантка, увидев меня, зябко поеживается и участливо спрашивает: «Здорово пробирает? Смотрите-ка, у вас вон даже слезы на глазах».
— Да, — говорю я. — Прихватывает. Крепко.
Обычно нас собирается трое или четверо, дежурных завсегдатаев ночных кафе, мы обмениваемся пустыми и привычными фразами, прячась от своих страхов, волнений и тревог, а на рассвете равнодушно расходимся — кто куда.
Я допиваю остывший прогорклый кофе, и тут наступает утро с его обыденной суетой. Я спешу домой — у меня масса забот: неизвестно, пришлют ли из прачечной рубашки, заведется ли машина — я почти бегу — надо еще побриться и привести себя в порядок, черт, куда же задевались ключи? — словом, я задерганный университетский преподаватель, и мой день уже двинулся по накатанным рельсам, а отец, и неясные фигуры за окном, и лодки у пирса окончательно исчезают, растаяв в сероватом сумраке будней моей десятилетней преподавательской службы. Бледнеют и гаснут предрассветные страхи — разрозненные кадры немого кино, тени смешных и бесшумных зверюшек, повторяющих движения маминых пальцев, когда она шьет у настольной лампы, — забытые картины далекого детства.
Едва научившись запоминать слова, я узнал, что в нашей семье есть лодка: мама, сестры, отец и лодка.
Отец. Я вижу огромные сапоги, потом я чувствую, как меня поднимают, — колкая щека, вкус соли на губах, и запах соли, запах отца, этим запахом пропитаны его белые волосы, одежда, сапоги с ярко-красными подошвами — и лодка.
В лодке запах соли устоялся навеки, он сразу окутал меня духом постоянства, поэтому сначала я ничего не заметил, и вдруг оказалось, что мы уже плывем. Отец сделал по гавани традиционный круг, подошел к причалу, укрепил фалинь, сбросил в воду кормовой якорь, поднял меня высоко над головой, поставил на мол, потом вылез сам, посадил себе на плечи и зашагал к дому.
Мама и сестры ждали нас в кухне. Когда мы вошли, они ужасно засуетились, стали спрашивать: «Ну как тебе понравилась лодка? Ты не боялся в лодке? Ты не плакал в лодке?» Они всё повторяли — «лодка, лодка», — и я понял: в нашей семье самое главное — лодка.
Мама. По утрам мы оставались вдвоем, она стряпала, «чтобы отец мог поесть в лодке», чинила одежду, «порванную в лодке», и поглядывала в окно: «не показалась ли лодка». Отец обычно возвращался чуть за полдень, и мама его спрашивала: «Ну как там, в лодке?» — первый, запомнившийся мне с детства вопрос: «Ну как там, в лодке?»
— Ну как там в лодке?
Лодка была приписана к порту Хоксбери. Такие суденышки, футов тридцать в длину и около десяти в ширину, называют островчанками, их используют для ближнего прибрежного лова, рыбаки промышляют на них омара — весной, макрель — летом, а осенью — треску; в октябре мы брали еще мер лузу и пикшу. Лодку тянул мощный мотор от грузовика с переделанной коробкой и муфтой сцепления — на реверсе мы шли как на прямой передаче.
«Дженни Линн» — вот как звалась наша лодка, потому что так звали до замужества маму, — традиция называть лодки в честь хозяйки дома держалась в нашей округе с незапамятных времен, и имя лодки, выведенное по трафарету, красовалось на носу с обоих бортов, а к корме была привинчена медная дощечка с выгравированными буквами — «Дженни Линн». Весной лодку красили в светло-зеленый цвет и заново по трафарету наводили имя.
Я рассказываю об этом, забегая вперед: в день моей первой прогулки по гавани я не знал, конечно, ни размеров лодок, ни древних традиций, ни конструкций моторов, — в тот день я не знал даже имени мамы.
Мир раскрывался передо мной постепенно, и сначала он умещался в нашем маленьком домике, стоявшем у берега рыбачьей бухты среди полусотни таких же домишек, храбро притулившихся у самой воды или, как наш, отступивших к холмам. Главной комнатой у нас была кухня, она обогревалась старинной печкой, приспособленной для топки дровами и углем. Возле печки примостилось ведерко для угля и горка наколотой лучины на растопку. В середине стоял тяжелый раздвижной стол и пять самодельных деревянных стульев, иссеченных старыми, потемневшими зарубками, у восточной стены — продавленная кушетка, над кушеткой — полочка со спичечными коробками, пачками табака, рыболовными крючками, мотками бечевки и старыми квитанциями. К северной стене была прибита доска со множеством разнообразных железных крюков, и на каждом — груда всевозможной одежды, а под вешалкой громоздилась куча сапог. На той же стене висели барометр и карта, а на полочке стоял маленький радиоприемник. Из окна, прорубленного в южной стене, открывался просторный вид на залив. Кухня была рубежом между отцовской спальней, в которой царил невообразимый хаос, и остальными, безукоризненно чистыми комнатами.