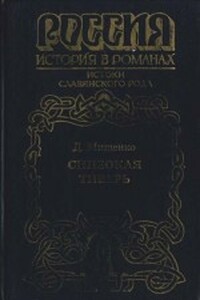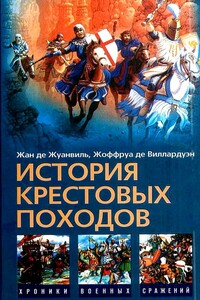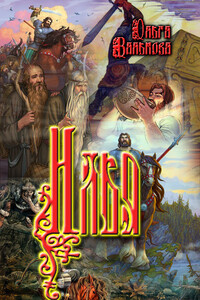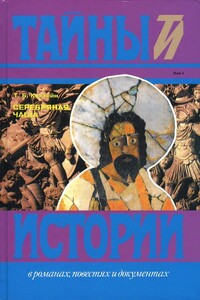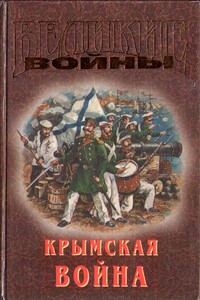Та ночь была поистине летняя: теплая и тихая, с бесконечно высоким и чистым небом над землей, с густо усеянным звездами небом. А еще запахи наполняли степь и распирали грудь неземным соблазном. Ей-богу, только было бы их изобилие, чтобы усладить себя и довольствоваться сладостями земного бытия. Но люди есть люди, им всего мало. Любовались степным привольем и стремились к поднебесной, упивались ароматами, но не говорили: насытились. Одни — в основном молодые — разжигали костры и обзаводились топливом, другие хлопотали у баранины, что жарилась на огне. Вскоре ужин, а ужин в степи, под погожим летним небом — не меньшее удовольствие, чем любование соблазнами. Он собирает в группы всех: и молчунов, и балагуров — тех, что только любят слушать беседу, и тех, кого объединяет оратор своим веселым словом.
Огонь то угасает, то снова разгорается и гонит прочь тьму, добавляет тепла, а тепло побуждает пастухов к выдумкам и делает беседу такой же приятной, как и степные соблазны. Поэтому не умолкает она ни за ужином, ни после ужина. Покой, тишина, свойственная покою, нередко лопаются и уступают место смеху, смех — очередной тишине, а то и слаженной песне. И так до глубокой ночи. Кто-то, набегавшись за день, засыпает раньше, кто-то — самые заядлые, еще беседуют, а кому-то (в большинстве своем это пожилые или совсем пожилые) приходится следить за очагом, так и за лошадьми, пасущихся там где-то поодаль, до самого рассвета. Только на рассвете позволят себе сомкнуть веки и заснуть, как и все, крепким, беспробудным сном.
Спали и тогда, когда в степи подняли тревогу.
— Эй, кутригуры! — гнал кто-то на жеребце из небольшой балки и кричал что было сил. — Беда! На наших лошадей посягнули тати! В погоню скорее! В погоню!
Этого было достаточно, чтобы всполошилась вся степь. Поэтому поскакали гонцы по степи — от стойбища к стойбищу и от очага к очагу. Тревога зовет всех, кто способен держать меч в руках, и собирает в сотни, а сотни — в тысячи. Воины становились на свое место, кметы — на свое, нередко и хан объявлялся между потревоженных.
— Кто видел татей? — спрашивает. — Кто может сказать, куда погнали наших лошадей?
— Видеть не видели, — находятся люди, — а следы ведут к Широкой реке, не иначе как к утигурам.
Те, что поведали это, ведут погоню по следам, и этого уже достаточно хану. Сообщивший о нападении, вздыбливает застоявшегося за ночь жеребца и показывает рукой: там, кутригуры! Там ваш обидчик и ваш супостат!
Лошадь для кутригура все: и живность для рода (и еще какая: дает молоко, дает мясо), и сила, перевозящая тот же род с долины в долину, с выпаса на выпас, и наивернейший побратим ратный в сечах. Что пеший против всадников и кутригур без коня? И от своих отстанет, и чужих не догонит, в ряды мечников не врежется и мечом не поразит супостата, что восседает на коне. Это кто-то там — ромеи, анты могут сражаться и так, и сяк, кутригуры — воины-всадники и только всадники. Потеря коня — это потеря всего, на что надеются в жизни и чем живут в мире. Поэтому и пылает у каждого жгучим гневом сердце, поэтому и стремится каждый найти, настигнуть татей, что посягнули на их состояние.
Гудит под копытами земля, свистит мимо ушей прохладный с ночи воздух, а кутригуры пришпоривают и пришпоривают лошадей, стелется и стелется им под ноги встревоженная степь. Поэтому уверены: тати не могли так быстро бежать, они вот-вот будут настигнуты.
Когда этого не произошло, они не знали, что и думать. Обманчивы были следы или пастухи поздно кинулись? Вероятно, что так: поздно отправились в погоню. Кто замышляет такую, как эта, татьбу на рассвете? Еще вечером, пожалуй, захватили табуны, и погнали на восток. А те, кому поручено пасти, болтали в это время у костра или спали сном праведников.
Что же теперь будет? Как поступит молодой хан? Отец его не испугался бы речной шири, он нашел бы способ переправиться и разыскать кутригурских лошадей в стойбищах утигуров. А этот стоит, смотрит за реку и рассуждает. Неужели так и не отважится?
— Вели, хан, — подсказывают и побуждают подсказкой. — Вели переправиться ночью и выведать, где лошади, какие утигурские стойбища причастны к татьбе. Выведаю — не только свое вернем, ихних тоже прихватим. Хан обернулся, смотрит пристально.
— Думаете?
— Почему нет? Лишь бы знать, кто причастен…
— А я другое мыслю себе: что из этого будет? Утигуры к нам ходят с татьбой, мы — к утигурам. Что это даст нам и — утигурам?
Молчали кметы. И хан молчал. Смотрел по Широкую реку, видно: как он гневается на татей, но не соглашается с советом. Может, передумает еще? Молод он еще, горячий, а от молодого всего можно ожидать.
Но хан не передумал. Велел дать лошадям передышку и возвращаться к своим стойбищам.
Знал, от него ждут заступничества, поэтому не раз и не два ездил после в степь, стреножил жеребца и пускал пастись, а сам расстилал на траве попону, ложился на спину или лицом вниз и искал пути, которые могли бы привести его род к покою и благодати. Нередко вскакивал, словно ужаленный досадой, бродил по степи и снова искал. И день так, и два, и три, пока не наткнулся на ожидаемое и не воспрянул духом, в надежде. Прискакал одним вечером в стойбище, велел собрать малый совет с кметами и сказал на нем им: