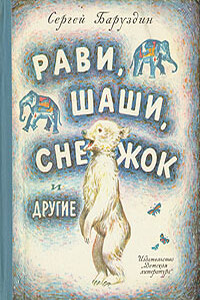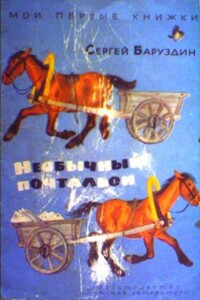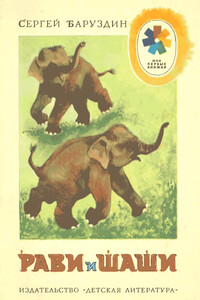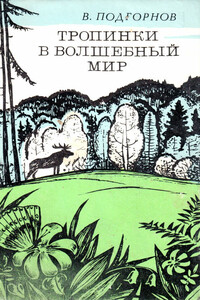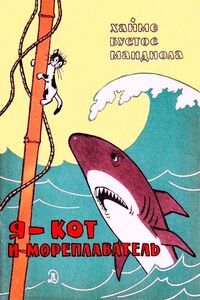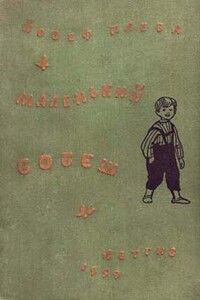И все-таки удивительно это — лес! Ели, сосны, ольха, дубы, осины и, конечно, березы. Как эти, что стоят отдельной семейкой на опушке: всякие — молодые и старые, прямые и кургузые, красивые и вовсе вроде бы не симпатичные на взгляд. Но почему-то сюда тянет. Тянет, когда хорошо на душе. Тянет, когда плохо. И когда никак — тянет…
Александр Петрович заметил березу, давно знакомую по прошлым годам, и не поверил себе: было ли так? Верх ствола расщеплен, и правая часть макушки повергнута вниз, повисла, зацепившись кончиками веток за соседнее дерево. Не было. Внизу ни щепы, ни коры. Значит, прошлым летом — гроза. Значит, без него. Летом он не приезжал…
А в войну она сохранилась. Обидно, что так!
Он погоревал как мог, но соседние березы — здоровые, разные, — стоило ему отойти в сторону, рассеяли эти мысли, и он подумал совсем о другом: у каждой березы, оказывается, свое лицо. Ни одна не похожа на другую. И все вместе не похожи на то единое, что зовется лесом.
Ели, сосны, ольха, дубы, осины — лес. А березы и в лесу сами по себе. И тут, на опушке, где стоят одни они, это не лес, а — березы. Много берез, но каждая из них — одна-единственная, неповторимая.
Такие же разные, как эти деревья, лица он видел вчера в городе, когда выступал в школе. И, пожалуй, впервые за послевоенные годы он не стеснялся перед ними за свое лицо — обезображенное, как эта сломанная береза…
Он принес в школу несколько самых простых моделей, показал, как их можно сделать. Потом спросил:
— Понятно?
— Понятно! — закричали ребята.
— Что еще вам пояснить?
— О войне расскажите! — просили мальчишки.
— А вы в Великой Отечественной войне принимали участие? — осторожно спрашивали аккуратные девчонки.
— А в гражданской? — восклицал кто-то нетерпеливым, петушиным голосом с места.
Александру Петровичу тут улыбнуться бы, спросить наивного «петушка» строгим голосом, а знает ли он арифметику и в каком классе учится, но он вспомнил своего отца, которого давно нет на свете, и его ответы на свои, такие же наивные, детские вопросы.
Да, сам был такой… Это очень-очень давно — до войны…
— И вся-то наша жизнь есть борьба, — говорил тогда ему отец и чуть грустно добавлял всегда одно: — Так-то, будущий красноармеец!
А теперь в кино, конечно, не на детском сеансе, или в театре совсем иное:
— Опять о войне?
Это уже вздохи его ровесников и зрителей помоложе.
Александр Петрович их не понимает. И презирает уходящих из зала, если на экране или на сцене — не пошлость.
И вот еще разговор с учительницей:
— Это ужас какой-то! Они все о войне мечтают! Только и разговор!
— А может, все же не о войне? О другом?
— Не знаю, не знаю, как в других школах, а у нас…
Александр Петрович пожал плечами. Ему дороже были эти мальчишки и девчонки, чем их учительница. Просто спорить с ней не хотелось. Как-никак учительница…
…В нем трудно узнать полковника. Когда идет по улице или стоит у прилавка в магазине, невозможно узнать. И вчера в школе никто не вспомнил об этом — не знали.
Учительница сказала:
— Вот вы просили, чтобы Александр Петрович рассказал нам, как строить модели. Сегодня он у нас в гостях. Давайте поприветствуем его! Я надеюсь, что он будет нашим постоянным шефом…
Даже необычное лицо его, изуродованное осколками мины, не напоминает сейчас, с отдалением времени, о войне. Мало ли что могло быть с человеком! Может, родился таким? Может, под машину попал? Или, еще проще, в нетрезвом виде свалился…
Да и сам Александр Петрович не вспоминает о высоком своем бывшем звании. Никогда не мечтал о нем. До войны мечтал о судостроительном институте — корабли строить, а попал в школу младших командиров.
Потом — сорок первый. Четыре года войны. Ранение одно, ранение другое и вот третье, самое страшное, выбившее из седла. Человек за бортом и того хуже — недвижимый человек. Лежачий полковник!
Если б не старое увлечение планочками, реечками, не выбрался бы. А это впадение в детство спасло. Первые модели в доме инвалидов еще в постели — шлюпка, шхуна, корвет, потом за столом — подводная лодка, и вновь свобода — город, какой-никакой одинокий, но свой дом. И еще возможность двигаться, ходить и больше того — ездить, как сейчас, сюда, в лес, где когда-то все начиналось и о чем нельзя забыть.
Может, конечно, и странно в этом пригородном лесу сейчас. Сейчас — зимой, в конце февраля. Корки африканских апельсин в лыжнях и рядом с лыжнями. Конфетные бумажки — «Театральные», «Холодок», аэрофлотовская «Взлетная» — рядом с лыжнями. Они напоминают город. Ох уж эти нынешние лыжники! Правда, и город стал ближе, чем он был в сорок первом…
И все же это лес. Мох на стволах елей и — плесень. Впрочем, плесень не плесень, а так выглядит смола. Зеленоватая, желтая, белая, бурая, серая, а все вместе — как плесень.
Дубки, даже самые молодые, шуршат сухой листвой. С осени сохранили. А как подует ветерок, что там шуршат — кипят, как чайники или самовары. Кипят!
Слева чащоба. Снега невпроворот, и туда сейчас днем с огнем не пробраться. Провалишься.
А позапрошлым летом Александр Петрович ходил туда не раз, пробивался через поваленные деревья, между ветвями, по мхам и подгнившему хрустящему суховью.