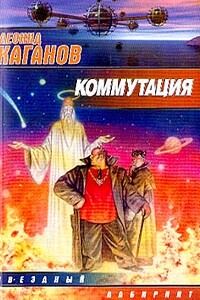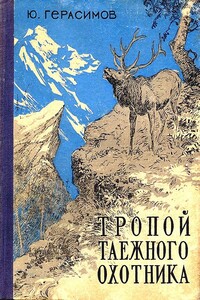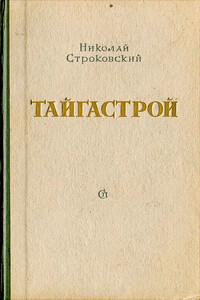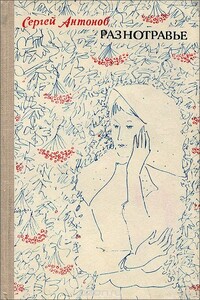Мы жили тогда в поселке под Шатурой, отец строил там железнодорожную ветку. У нас была черная кошка Акулина, она каждые три месяца приносила по шесть-семь котят. На котят в молодом поселке был большой спрос, мы уступали их с разбором, в хорошие руки; потом стали раздавать кому попало, лишь бы взяли. Наконец желающих не оказалось, поселок был с излишком насыщен потомством Акулины. Тогда-то и прозвучало впервые в нашем доме страшное слово «утопить». Не помню, кто первый произнес это слово, кажется Симочка.
— А если оставить их?.. — неуверенно сказала мама.
Отец взял карандаш. О, неумолимый язык цифр! Через год к наличным семи котятам прибавятся еще двадцать восемь. А еще через год и три месяца у Акулины будет тридцать пять детей и сорок девять внуков. Даже я понимал, что восемьдесят пять кошек в доме — это слишком много!
Выхода не было: придется котят топить. Но у кого поднимется на такое дело рука? Отец не мог убить и клопа, мать могла убить клопа, Симочка жарила живьем карасей в сметане, приговаривая себе в утешение: «Карась любит, чтоб его жарили в сметане». По сравнению с ними я был кровопийцей. Я обрывал хвосты ящерицам, стрелял из рогатки по воробьям, мог запустить камнем в лягушку, высунувшую из воды зеленую треугольную морду. Но все мои злодеяния были скрадены охотничьим азартом, хладнокровно утопить котят я, конечно, не мог.
Словом, дни проходили, а котята по-прежнему оставались на дне глубокого картонного ящика, устланного ватой и войлоком. Они гомозились там, сосали Акулину, тонко, пронзительно пищали, все более требовательно заявляя о своем гибельном для нас существовании. Выручила нас молочница.
— Экая беда!.. — сказала она в ответ на Симочкины жалобы. — Кликните солдата, он за пол-литра не то что котят — сам утопится!
И как только нам не пришло в голову обратиться к солдату!
Этот солдат был достопримечательностью поселка. Всегда пьяноватый, заросший пегой — соль с перцем — щетиной, растерзанный и неумытый, с Георгием на засаленной куртке, он ютился в хибаре за лесопилкой, в свободное от пьянства время пробавляясь всякой случайной работой. Наколоть дров, собрать шишки для самовара, опростать помойку, выбить пыль из половиков — он брался за все с угрюмой охотой. Но его рвения хватало ненадолго, он быстро уставал и тогда начинал курить, надрывно, смертно кашляя, канючить стопку и безбожно хвастаться былыми подвигами.
«Солдатом» прозвали его в шутку, никто не верил его россказням о боях под Мукденом в японскую войну, его прямой, будто деревянной ноге, не гнущейся от застрявшей в колене пули, его тускло-серебряному Георгию на темной, замусоленной ленточке, его умению выкрикивать отрывистым, сиплым голосом слова военной команды. Считали, что и ногу он сломал по пьянке, и Георгия нашел в мусорной куче, и героические небылицы подслушал у других вралей. Его безудержное хвастовство да и весь размундиренный облик слишком уж не вязались с представлением о боевой славе.
Лишь один человек в поселке знал, что солдат говорит правду, и человеком этим был я. Однажды я попался ему под трезвую руку, что случалось редко, и солдат тихо, печально рассказал мне свою жизнь: и о солдатчине, и о том, как ходил в штыковую атаку, и как ему было страшно, и о том, как, вернувшись с войны калекой в маленькую деревушку на Каме, узнал, что жена его умерла в родах, и как затосковал он и махнул рукой на свою жизнь. Странно, но эта узнанная правда о солдате никак не отразилась на моем отношении к нему. Вместе с другими ребятами я по-прежнему дразнил его, когда он, пьяный, ковылял к своей хибаре, кричал ему всякие глупые и обидные слова, дергал за мотню штанов, отчего он спотыкался и падал. Видимо, мое грустное уважение относилось не к нему, а к похороненному в нем доброму и несчастному русскому солдату. Да и сам он, хоть и доверился мне, не делал различия между мной и другими мальчишками, когда, обороняясь, довольно метко швырял в нас камнями и комьями глины…
Тщетно наведывалась Симочка в хибару за лесопилкой. Солдат, постоянно мотавшийся по поселку, когда в нем не было нужды, сейчас куда-то запропастился. А в воскресенье мы вдруг нежданно-негаданно увидели его близ нашей калитки, да еще непривычно прибранного, с надраенным Георгием. Он был не пьян, но под хмельком, и говорил что-то громкое и весело-вызывающее нашим соседям через дорогу.
Симочка проворно сбегала за ним. Волоча свою негнущуюся ногу, солдат прошел через двор и ступил в сени, где стоял ящик с котятами.
— Здравия желаю! — гаркнул он, вкусно дохнув вином и хлебом.
При звуке его голоса Акулина выпрыгнула из ящика и потянулась, сперва выгнув горбом, а потом длинно и узко растянув свое черно-лоснящееся тело.
Солдат захотел увидеть десятку, которую ему определили за труды. Мама принесла деньги и положила их на кухонный стол.
— Это по-нашенски — деньги на бочку! — весело сказал солдат, снова дохнув своим теплым, вкусным запахом, но десятку не взял. Он заглянул в ящик, где извивались червяками разноцветные Акулинины дети. — Всех топить будем? На развод не оставите? Дело! Давай мешок!
Симочка подала ему черный мешок из-под угля.