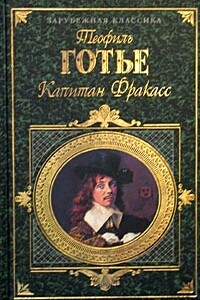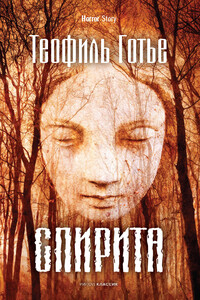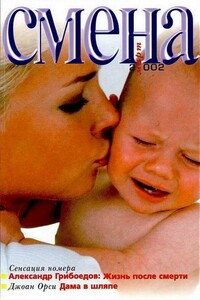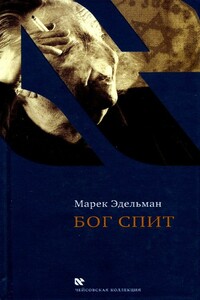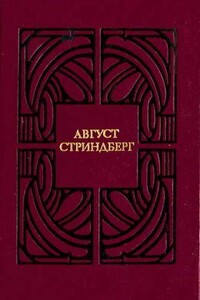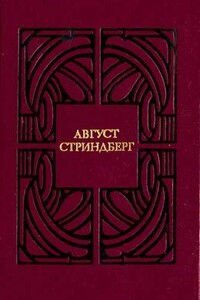Приглашение, составленное в загадочных выражениях, понятных лишь членам нашего общества,
заставило меня однажды декабрьским вечером отправиться в далекий квартал
Парижа. Остров Святого Людовика является чем-то вроде оазиса посреди города;
река, разделяясь на два рукава, обнимает его, ревниво охраняя от захвата
цивилизации. Именно там, в старинном отеле Пимодан, выстроенном некогда
Лозеном, происходили ежемесячные собрания нашего общества, и нынче я ехал туда
впервые.
Только что пробило шесть часов, но было уже совершенно темно.
Туман, еще более густой на берегу Сены, закутывал все предметы точно ватой, пропуская
лишь красноватые пятна зажженных фонарей и светящихся окон.
Мокрая от дождя мостовая отражала свет фонарей, словно речная гладь; резкий ветер
ледяными иглами колол лицо. Его пронзительный свист переходил в басовые ноты,
ударяясь об арки мостов. Этот вечер был полон суровой поэзии зимы.
Как ни трудно было найти на длинной пустой набережной нужный мне дом, но моему кучеру
все же удалось наконец разобрать полустертое имя отеля на мраморной доске.
Употребление звонков еще не проникло в эту глушь, и мне пришлось потянуть фигурный молоток.
Послышался шорох натягиваемой веревки. Я дернул сильнее, и старый, ржавый язык
замка поднялся, открывая массивные створки дверей.
Точно
картина Скалькена показалась за желтоватым прозрачным стеклом голова старой
привратницы, освещенная мерцающим пламенем свечи. При виде меня на лице старухи
появилась странная гримаса, и костлявый палец указал мне дорогу.
Насколько
я мог различить при слабом свете, который освещает землю даже в самую темную
ночь, двор, в который я попал, был окружен старинными строениями с островерхими
крышами. Между каменными плитами росла трава, и я быстро промочил ноги, словно
шел по лугу.
Узкие
высокие окна парадного подъезда, сверкая на темном фоне, служили мне маяками,
не позволяя заблудиться.
В
вестибюле отеля я очутился перед одной из тех огромных лестниц времен Людовика
XIV, где мог бы свободно разместиться современный дом. Египетская химера во
вкусе Лебрена с сидящим не ней амуром протягивала на пьедестал свои лапы, держа
свечу в изогнутых в виде подсвечника когтях.
Пологие
ступеньки и просторные площадки говорили о гениальности старинного архитектора
и широте образа жизни давно прошедших времен. Поднимаясь по этим удивительным
переходам в своем убогом черном фраке, я чувствовал себя не на месте в этой
строго-выдержанной обстановке, мне казалось, я присвоил себе чужое право. Для
меня была бы хороша и черная лестница.
Стены были увешаны картинами – то были копии полотен итальянских и испанских
мастеров, по большей части без рам. На высоком потолке смутно вырисовывалась
фреска на тему какого-то мифа.
Подойдя к указанному этажу, я узнал дверь по тамбуру, обитому мятым, лоснящимся от
старости утрехтским бархатом. Пожелтевший галун и погнувшиеся гвозди
свидетельствовали об их долголетней службе.
На мой звонок дверь с обычными предосторожностями открылась, и я словно возвратился на
два века назад. Быстротекущее время, казалось, не коснулось этого дома, он
походил на часы, которые забыли завести и стрелка которых показывает давно
прошедший час. Я стоял на пороге огромного зала, освещенного лампами,
зажженными на противоположном его конце. Белые стены зала были до середины
увешаны потемневшими полотнами, носящими отпечаток эпохи, на гигантской печи
возвышалась статуя, точно похищенная из аллеи Версаля. На куполообразном
потолке извивался небрежным набросок какой-то аллегории во вкусе Лемуана, может
быть, даже и его кисти.
Я
направился в освещенную часть зала, где вокруг стола сгрудилось несколько
человеческих фигур. Когда я вошел в светлую полосу, меня узнали и громкое «ура»
потрясло гулкие своды старого отеля.
– Вот он, вот он! – наперебой кричали голоса. – Дайте ему его долю!
Перед буфетом стоял доктор; он вынимал лопаточкой из хрустальной вазы какое-то
зеленоватое тесто или варенье и клал его по кусочку в палец величиной на
блюдечки японского фарфора подле золоченой ложки.
Лицо доктора сияло энтузиазмом, глаза блестели, щеки пылали румянцем, вены на висках
напряглись, раздувающиеся ноздри глубоко дышали.
– Это вычтется из вашей доли райского блаженства! – сказал он, протягивая мне мою
порцию.
После этого снадобья пили кофе по-арабски, то есть с гущей и без сахара; потом сели
за стол.
Читателя, конечно, удивит такое нарушение кулинарных обычаев, ибо никто не пьет кофе
перед супом, варенье тоже едят на десерт. Это обстоятельство требует разъяснения.