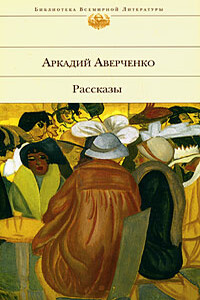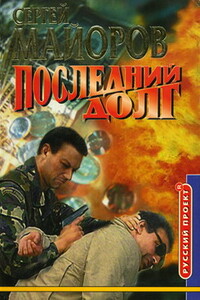Введение. Зачем я выпускаю «Кипящий котел»?
Человеческая память — очень странная машина, почти всегда действующая с перебоями…
Один юмористический философ разрешился такой нелестной для человеческой памяти сентенцией:
— Никогда не следует (говорил он) доверять человеческой памяти… Память моя сохранила одно очень яркое воспоминание: однажды в детстве я, гуляя, свалился в глубокую яму. Я это твердо помню. Но как я из этой ямы выбрался — решительно не помню… Так что, если доверяться только одной памяти — я должен был бы до сих пор сидеть в этой яме…
Нас было несколько сот тысяч человек, которые сидели в огромной яме, но с нами случилось не совсем так, как с моим философом: мы очень хороню помним, как мы попали в яму и как из нее выбрались, но период нашего сидения (знаменитый, потрясающий период!) начал постепенно изглаживаться из нашей памяти, и — еще год-полтора — вся эта эпопея «сидения» станет бледным, серым, расплывчатым пятном без красок, фактов и очертаний.
Я хочу этой книгой закрепить период нашего годового кипения в раскаленном котле, в этой горячей яме, дно которой жгло пятки, — одним словом, я хочу, чтобы все, уплывающее из нашей памяти, расположилось ясными, прямыми, правдивыми строками на более прочной, чем мозг человеческий, — бумаге.
Мой кипящий котел — это Крым эпохи «врангелевского сидения».
Что это за удивительный, за умилительный период: в одном котле кипели и щуки, и караси, и букашки, и таракашки, и «едоки первой категории», — и все это, кипя, ухитрялось пожирать друг друга: мелких букашек поедали караси, карасей — щуки, щук — едоки первой категории, а кипящий распад «едоков» снова поедался букашками, червячками и таракашками.
Пройдет два-три года — и до дырок будет русский человек протирать лоб, вспоминая:
— А сколько это я платил в Крыму за бутылку лимонаду? Не то 15 целковых, не то полторы тысячи? Помню, дом на Нахимовском я купил до войны за 30 тысяч… Но почему я потом за гроб для отца заплатил 800 тысяч? Как случилось, что я, имея на пальце бриллиантовое кольцо, ночевал на скамейке Приморского бульвара? Почему селедки мне заворачивали в энциклопедический словарь? А кто были наши рабочие? Большевики? Меньшевики? Как они понимали рабочий вопрос? Почему они, живя во сто раз лучше других, — бастовали? *
И не будет ответа! Все чудесное, курьезное, все героическое, все ироническое стерлось, как карандашная надпись резинкой…
Книгой «Кипящий, котел» я все это хочу закрепить.
Может быть, мои очерки иногда гиперболичны, иногда неуместно веселы, но в основе их всегда лежит факт, истина пронизывает каждую строчку своим светлым лучом — и это моя скромная заслуга перед историей.
Наши будущие дети! В заброшенной отцовской библиотеке вы найдете эту пыльную с пожелтевшими краями книгу, развернете ее — и глазенки ваши от изумления выкатятся из орбит сантиметра на два: бред сумасшедшего графомана?!
Нет, дорогие детишки! Это все правда, и мы, герои, полубоги, гомеровские отпрыски, — пережили дикий «Кипящий котел» на своих многострадальных боках!..
А. Аверченко
Настроение плохое, с утра серый упорный дождь, и все окружающее тоже приняло серую окраску.
Сел за письменный стол с очень определенным тайным решением: свирепо ругаться.
Довольно добродушия! Решил называть все вещи их собственными именами, ставить точки над i, ломиться в открытую дверь, плакать по волосам, снявши голову, смотреть в зубы дареному коню, кусать свои локти, развалиться не в своих санях и, вообще, гнаться за двумя зайцами — может быть, поймаю обоих и тут же зарежу, каналий, и того, и другого.
* * *
Сидел недавно в театре на концерте знаменитого артиста. Гляжу — на нем старый, порыжевший фрак.
Сначала сжалось мое сердце, а потом посветлел я: будто на карточку любимой женщины в ворохе старой дряни наткнулся.
Здравствуй, старый петербургский фрак. Я знаю, тебя шил тот же чудесный петербургский маэстро Анри с Большой Морской, что шил и мне.
Хорошо шивали деды в старину.
Этому фраку лет семь, и порыжел он, и побелел по швам, а все сидит так, что загляденье.
И туфли лакированные узнал я — вейсовские.
Держитесь еще, голубчики?
Видали вы виды… Сверкали вы по залитой ослепительным светом эстраде Дворянского Собрания, сверкали на эстраде Малого зала Консерватории, а иногда осторожно ступали, боясь поскользнуться, на ослепительном паркете Царскосельского, Красносельского, Мраморного — много тогда было дворцов, теперь, пожалуй, половину я и перезабыл…
А нынче вы не сверкаете больше, лакированные туфли. Вы потускнели, приобрели благородный налет старины, и долго еще не заменит вас ваш хозяин другими, хотя и получает он за выход целую уйму денег: десять тысяч.
Не заменит потому, что получает он десять тысяч, а фрак и ботинки стоят двадцать, а когда он сдерет за выход двадцать тысяч — ваши новые заместители, многоуважаемый фрак и ботинки, — будут стоить сорок тысяч.
Махнет рукой ваш хозяин и скажет:
— Нет, не догнать.
И будете вы все тускнеть и тускнеть, все более покрываться налетом старины, переезжая из Севастополя в Симферополь, из Симферополя в Карасубазар, из Карасубазара в какой-нибудь Армянск — ведь пить-есть надо даже гениальному человеку.