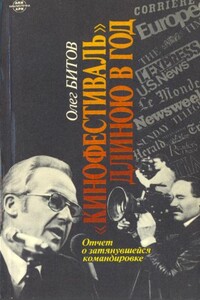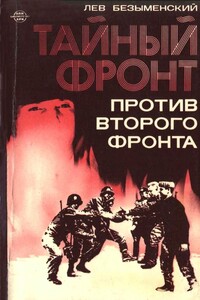Споры, самые разные, в редакционной практике вспыхивают каждый день. Для настоящей большой газеты они, по-моему, просто необходимы, вроде смазки или заточки инструмента на заводе. В прежние, как принято теперь выражаться, застойные времена такие споры отчасти возмещали невозможность высказаться в полный голос на газетной странице, а отчасти и помогали найти способы высказаться, невзирая на многоярусные запреты. Сегодня, когда запреты тают и, похоже, скоро истают совсем, первая функция должна бы утратиться, вторая — выпрямиться и заостриться: не окольные же тропы нынче искать! Но в жизни все, как всегда, оборачивается сложнее.
Кажется, в конце декабря 1987 года, вскоре после того как я довел эту книгу до эпилога и, прежде чем нести издателям, сложил лист за листом в папку — пусть вылежится, — на глаза мне в одной из тассовских сводок попалось крошечное сообщеньице: в турецкой тюрьме при неясных обстоятельствах умер Аслан Самет. Вы, естественно, вправе не помнить, кто он такой, но, заверяю вас, двумя годами ранее его смерть вызвала бы мировую сенсацию и не нашлось бы газеты, которая не напечатала бы это сообщение на самом видном месте. В конце 87-го он едва-едва удостоился нескольких строк.
Но я-то помнил кто это! На меня от этого имени полыхнуло взрывом ассоциаций, и я предложил начальству дать в ближайший номер заметку-комментарий.
Начальство, правда, не вдруг, тоже сумело вспомнить Аслана Самета. И, вспомнив, призадумалось:
— Это что же, придется пересказывать все, связанное с ним, заново? И про Иоанна Павла II, и про «серых волков», и про римский процесс?
— Все не все, но какие-то основные вехи несомненно. Ведь один за другим, как по расписанию, отправляются на тот свет все, кто реально соприкасался с подготовкой «преступления века». А затем либо не был допрошен вообще, либо допрошен при закрытых дверях. Такая цепочка смертей просто не может быть случайной!..
— Ну и что?
— Удивительно, как еще Агджа держится в живых, — не унимался я. — Впрочем, в итальянских газетах мелькнуло сообщение, что у него обнаружился туберкулез. В острой форме…
— Ну и что? — повторило начальство, ничуть не загораясь. — Это темы вчерашнего дня. Агджа, «преступление века», козни спецслужб — все это теперь неактуально. Вышло из моды…
Не могу пожаловаться на особую робость перед начальством. Но бывают начальственные суждения, волей-неволей повергающие если не в немоту, то в оторопь.
— Выходит, события, как тряпки, делятся на модные и немодные? Модное наденем и разукрасим, а немодное выбросим?
Начальство слегка рассердилось.
— У вас тридцатилетний газетный стаж, не заставляйте объяснять вам азы профессии. Любой номер, любая заметка привязаны к дате выхода, и иначе быть не может. Неизбежно приходится что-то выбирать и от чего-то отказываться.
Тут, однако, собеседнику припомнились известные факты, относящиеся ко мне лично, и настроение у него смягчилось. Выйдя из-за стола, он полуобнял меня за плечи.
— Понимаю, как не понять, что у вас эта тема болит, до сих пор болит. И все же постарайтесь от нее отрешиться. Не поблагодарят нас сегодня, ох не поблагодарят, если мы сызнова потащим на газетные страницы «серых волков» и все, что с ними связано. Насчет моды, конечно, вышло неловко, но вы сами знаете, что я имел в виду…
Да, к сожалению, знаю. Знаю, что на протяжении десятилетий газетные полосы формировались — не всегда, но часто, — исходя из «ценных указаний». Знаю, что у газетных администраторов — не у всех, но у многих — ожидание указаний и готовность незамедлительно следовать им вошли в привычку и что нынче, когда указания стали редкостью, администраторы чувствуют себя неуютно и по инерции продолжают придумывать ограничения, которых никто не налагал. Знаю, что газетная профессия, как никакая другая, была подвержена чисто оруэлловскому двоемыслию (разговор о замечательном английском писателе Джордже Оруэлле в этой книге неизбежен и состоится). И что избавление от двоемыслия, когда «для себя» думают одно, а пишут другое, потому что «так надо», — насущнейшая, настоятельнейшая для каждого газетчика задача.
Очевидно, мой собеседник этой задачи для себя еще не решил. А я? Бог весть. Комментарий на смерть Аслана Самета остался ненаписанным.
Но разве дело в Самете! Не брат он мне и не сват, в глаза я его не видел и не увижу. И можно было бы, никто не запрещал, пойти к другому начальству, повыше, настаивать, доказывать и даже, не исключается, доказать. Но одолевшая меня оторопь не проходила, напротив, час за часом ширилась и разрасталась. Что, если критика с тех же позиций уготована не какому-то чахлому комментарию, а только что законченной книге? Что, если ее тоже объявят неактуальной, обветшалой, вышедшей из моды?