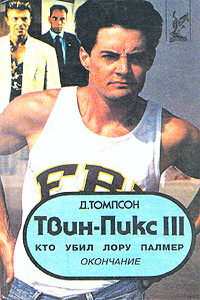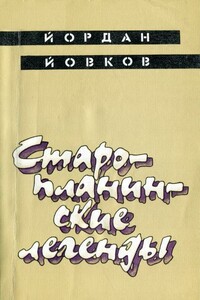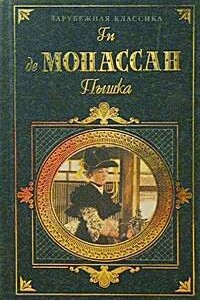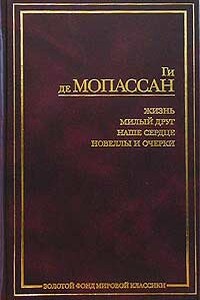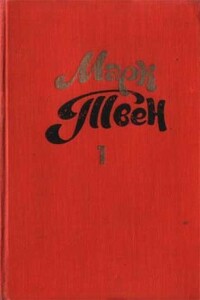В зеркальную мглу улицы убегал последний трамвай, и над ним, по проволоке, с треском и трепетом стремилась вдаль бенгальская искра, лазурная звезда.
— Что ж, поплетемся пешком, хотя ты очень пьян, Марк, очень пьян...
Искра потухла. Крыши под луной лоснились: серебряные углы, косые провалы мрака.
Сквозь темный блеск шел он домой, — Марк Штандфусс, приказчик, полубог, светловолосый Марк, счастливец в высоком крахмальном воротнике. Над белой полоской, сзади, волосы кончались смешным неподстриженным хвостиком, как у мальчика. За этот хвостик Клара и полюбила его, — да, клялась, что любит, что забыла стройного, нищего иностранца, снимавшего в прошлом году комнату у госпожи Гайзе, ее матери.
— И все-таки, Марк, ты пьян...
Сегодня друзья чествовали пивом и песнями Марка и рыжую, бледную Клару, — а через неделю будет их свадьба, и потом до конца жизни — счастье и тишина, и ночью рыжий пожар, рассыпанный по подушке, а утром — опять тихий смех, зеленое платье, прохлада оголенных рук.
Посреди площади — черный вигвам, красный огонек: починяют рельсы. Он вспомнил, как сегодня целовал ее под короткий рукав, в тот трогательный след, что остался от прививки оспы. И теперь шел домой, пошатываясь от счастья и хмеля, размахивая тонкой тростью, и в темных домах по той стороне пустынной улицы хлопало ночное эхо в такт его шагов, а потом смолкло, когда он повернул за угол, где у решетки стоял все тот же человек в переднике и картузе, продавец горячих сосисок, и высвистывал по-птичьи, нежно и грустно: вюрстхен... вюрстхен...
Марку стало сладостно жаль сосисок, луны, голубой искры, пробежавшей по проволоке, — и, прислонясь к забору, он весь сжался, напрягся и вдруг, помирая со смеху, выдул в круглую щелку: “Клара... Клара... о, Клара, моя милая...”
А за черным забором, в провале между домов, был квадратный пустырь: там, что громадные гроба, стояли мебельные фургоны. Их раздуло от груза. Бог весть, что было навалено в них. Дубовые баулы, верно, да люстры, как железные пауки, да тяжкие костяки двухспальной кровати. Луна обдавала их крепким блеском. А слева, на задней голой стене дома, распластались гигантские черные сердца, — увеличенная во много раз тень липы, стоявшей близ фонаря на краю тротуара.
Марк все еще посмеивался, когда всходил по темной лестнице на пятый этаж. Вступив на последнюю ступеньку, он ошибся, поднял еще раз ногу — и опустил ее неловко, с грохотом. Пока он шарил в потемках по двери, отыскивая замочную скважину, бамбуковая тросточка выскочила из-под мышки и, легко постукивая, скользнула вниз, по ступенькам. Марк затаил дыхание. Думал, — трость повернет, там, где поворачивает лестница, и, постукивая, докатится до самого низу. Но тонкий деревянный звон внезапно замер. Остановилась, мол. Он облегченно усмехнулся и, держась за перила, — пиво глухо пело в голове — стал спускаться обратно, наклонился, чуть не упал, тяжело сел на ступень, шаря вокруг себя ладонями.
Наверху дверь на площадку открылась; госпожа Штандфусс, — керосиновая лампа в руке, сама полуодетая, глаза мигающие, дым волос из-под чепца — вышла, позвала: ты, Марк?
Желтый клин света захватил перила, ступени, трость, — и Марк, тяжело и радостно дыша, поднялся на площадку, а по стене поднялась за ним его черная, горбатая тень.
Потом, в полутемной комнате, перегороженной красной ширмой, был такой разговор:
— Ты слишком много пил, Марк...
— Ах нет, мама... Такое счастье...
— Ты перепачкался, Марк. У тебя ладонь черная...
— ...такое счастье... А, хорошо... — холодная. Полей на макушку... Еще... Меня все поздравляли, — да и есть с чем... Еще полей...
— Но, говорят, она так недавно любила другого... иностранца, проходимца какого-то. Пяти марок не доплатил госпоже Гайзе...
— Оставь... Ты ничего не понимаешь... Мы сегодня так много пели. Пуговица оторвалась, смотри... я думаю, мне удвоят жалованье, когда женюсь...
— Ложись, ложись... Весь грязный... новые штаны...
В эту ночь Марку приснился неприятный сон. Он увидел покойного отца. Отец подошел, со странной улыбкой на бледном, потном лице, и, схватив Марка под руки, стал молча сильно щекотать его, — не отпускал.
Только уже придя в магазин, вспомнил он этот сон, вспомнил оттого, что приятель, веселый Адольф, пальцем ткнул его в ребра. На миг в душе распахнулось что-то, удивленно застыло и захлопнулось опять. Опять стало легко и ясно, и галстуки, которые он предлагал, ярко улыбались, сочувствовали его счастью. Он знал, что вечером увидит Клару, — вот только забежит домой поужинать, — а потом сразу к ней... На днях, когда он рассказывал ей о том, как они уютно и нежно будут жить, она неожиданно расплакалась. Конечно, Марк понял, что это слезы счастья, — так она и объяснила ему, — а потом закружилась по комнате, — юбка — зеленый парус, — и быстро-быстро стала приглаживать перед зеркалом яркие волосы свои, цвета абрикосового варенья. И лицо было растерянное, бледное — тоже от счастья. Это ведь так понятно...
— В полоску? извольте...
Он завязывал на руке галстук, поворачивал руку туда-сюда, соблазняя покупателя. Быстро открывал плоские картонные коробки...