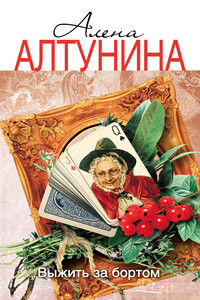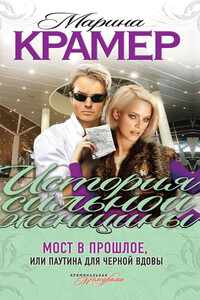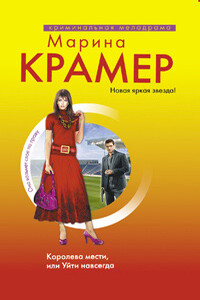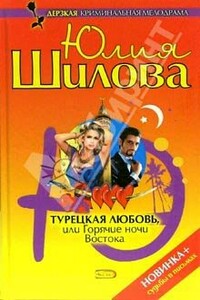… Ни бодрствую, ни сплю, —
и так проходит ночь…
настанет же рассвет —
весенний долгий дождь
и думы о тебе…
Эти навязчивые строки постоянно отдаются в мозгу, мешая жить, изнуряя, заставляя снова и снова возвращаться в тот день, заново переживать случившееся. Два месяца прошло, а все не отпускает никак, не становится легче, не забывается. И так тянет туда, на кладбище, где под черной плитой лежит тот, ради кого была вся жизнь…
– Даша, что ты там делаешь? – Марина вошла в каминную и с удивлением обнаружила, что домработница выставила из бара все бутылки и теперь пытается расположить их в каком-то только ей ведомом порядке.
Отбросив со лба светлую кудряшку, круглолицая, улыбчивая Даша повернулась к хозяйке:
– Убрать тут решила, Марина Викторовна, столько бутылок скопилось – ужас!
– Радоваться должна, что их много и все полные, – буркнула Коваль, беря со столика пачку сигарет и отправляясь в спальню, на балкон.
Она совсем прекратила прикасаться к спиртному – боялась, что затянет, и тогда точно не выкарабкаться. Именно поэтому в баре скопилось столько разнообразных бутылок с напитками. Марина дала себе слово не упасть до той черты, после которой начинается ничто, и держалась, хотя порой ей хотелось махнуть рукой на все и заглушить разрывающую сердце боль с помощью испытанного средства – бутылки текилы.
В такие моменты она запирала бар на ключ и отдавала его домработнице, под угрозой увольнения запрещая Даше возвращать его. Привычная ко всему Дарья не удивлялась – знала, как легко молодая хозяйка срывается и выключает себя из жизни на неопределенный срок. Сейчас, когда после гибели Егора Сергеевича прошло два месяца, Даша уже меньше переживала, наблюдая за тем, как Марина старается держать себя в руках. Да и Хохол не давал ей слишком уж задумываться и погружаться в свое горе. И было еще кое-что…
Апрель никогда раньше не казался таким монотонным и тягостным. Завтра с Кипра возвращается футбольная команда, а Марине до этого не было никакого дела, даже неинтересно, как они там сыграли, с кем…Ничего не хотелось, все надоело…
Телефон звонит, а трубку снять лень, все равно это кто-то неважный и ненужный. Но упертый зато – трезвонит и трезвонит!
– Да!
– Здравствуй, Марина…
«Черт тебя побери – опять надоедливый мент, достал уже! Как только ухитряется так быстро добывать постоянно меняющийся номер мобильника – непонятно! Пользуется служебным положением, что ли?»
– Чего тебе опять, Ромашин? – устало ответила Коваль, заранее зная, чего – сейчас встречу назначать будет, заколебал!
– Ты будешь сегодня в городе?
– А может, я уже там?
– Я стою напротив твоего офиса, и тебя здесь точно нет. Так что?
– Слушай, самому-то не надоело еще? Как мне от тебя отделаться, скажи? Каким волшебным словом? Тем, что на три буквы? – Она закурила сигарету и закинула ногу на перила балкона.
– Зачем ты так? – немного обиделся подполковник. – Я соскучился.
– Вот бы мне твои проблемы, а? – позавидовала Марина, покачиваясь в кресле. – Мне совсем скучать некогда.
– Так я увижу тебя сегодня? – настаивал он, и она усмехнулась:
– А ты телевизор включи вечером – там обязательно что-то обо мне будет! Ведь знаешь, что от меня журналисты уже третий месяц не отлипают, как и ты, впрочем.
Со дня гибели мужа ей просто прохода не давали, особенно когда вскрылось, что никакой это не московский строитель Грищенко погиб от выстрела в висок, а сам Егор Сергеевич Малышев, считавшийся давно погибшим. «Восстановлена справедливость!» – так об этом сказал один борзый журналист в «Криминале»… Правда, через два дня он почему-то закрылся в своем гараже и угорел в машине, надышавшись выхлопными газами… непонятно, что ж он так неосторожно…
– Марина, ты сама-то не устала корчить из себя неизвестно кого? – поинтересовался тем временем Ромашин. – Ведь я знаю, что ты совсем не такая…
– Да, я знаю, что я в принципе ангел… наверно, – усмехнувшись, проговорила она. – Только вот крылья мне как-то один человек вырвал с кровью и макнул меня потом в чан с дерьмом, чтоб не сильно гордилась. Так что теперь я именно то, чем выгляжу.
– Неправда. Тебе просто нравится думать о себе в подобном свете, вот ты и думаешь, и других еще заставляешь.
– Так не думай обо мне – в чем проблема-то?
– Легко тебе говорить, – вздохнул он. – Приезжай ко мне…
– Куда?! – поразилась Коваль такой наглости. – В управу, что ли? Это еще зачем?
– Зачем… затем, что я хочу увидеть тебя.
– Ты точно больной, Ромашин! Как медкомиссию-то обошел, скажи? В ментовку психов не берут.
– Мне исключение сделали…
– Повезло, – Марина выбросила окурок, перекинула ногу на ногу, устраиваясь удобнее. – У тебя все?
– Ты не ответила.
– А была должна?
– Марина, я ведь не мальчик, а ты заставляешь меня валяться в ногах, вымаливая возможность увидеть тебя, – тихо и грустно проговорил Ромашин.
– Саша, ты волен делать все, что хочешь. Я не принуждаю тебя ни к чему – ты сам хочешь этого. Давай прекратим бесполезный разговор, – попросила она. – Счастливо тебе, – и положила трубку, отключив телефон.
Бедолага Ромашин потерял голову в тот самый момент, когда увидел ее впервые, в тот самый день, когда погиб ее муж. Подполковник места себе не находил и был рад тому обстоятельству, что лично контролирует дело, это давало ему возможность видеть поразившую его женщину. Разумеется, Ромашин отдавал себе отчет в том, кто она и чем занимается, как и понимал то, что вряд ли она станет общаться с ним по поводам, не имеющим отношения к расследованию гибели ее мужа. Но образ Марины преследовал подполковника, заставлял постоянно вспоминать ее, сидевшую в кресле посреди огромного зала казино, ее бескровное лицо, на котором ярко и непристойно выделялись накрашенные алой помадой губы. Кто угодно выглядел бы вульгарно в таком виде, но не она – ей удивительно шло все это, и траурные одежды, и вызывающе-кровавые губы.