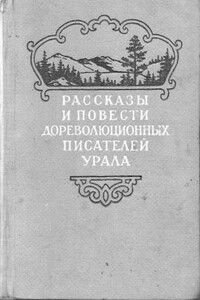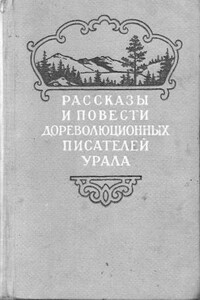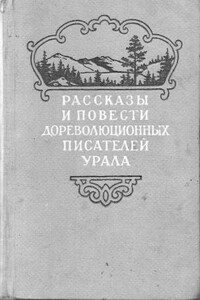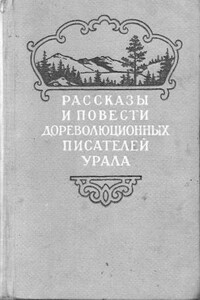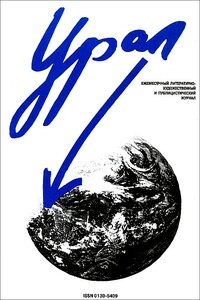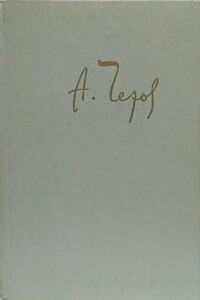Славный весенний вечер. Солнце уже низко, и его теплые золотые лучи, пронизав густые ветви лип и берез, еще покрытых цветом, уперлись в стену большого бревенчатого здания, называемого конным двором. Лицевая сторона этого здания симметрично прорезана тремя широкими дверями, запиравшимися толстыми железными полосами и большими висячими замками. Одна из этих дверей была отворена, и перед ней, на рундуке из толстых брусьев, сидел старик и починял сапог.
Лицо старика все было покрыто множеством мелких морщинок, сильнее сгущавшихся у углов рта и глаз, и носило на себе отпечаток трудовой жизни, сопровождаемой заботами и лишениями. Небольшая курчавая бородка, в которой еще виднелись кой-где темные волоски, соединялась на висках с такими же волосами и резко отделялась от его открытой коричневой шеи. Глаза у него были небольшие, белесоватые, будто выцветшие от времени, но не совсем еще утратившие свою подвижность и выразительность. Кротко и любовно смотрели эти старческие глаза из-под седых бровей; терпение и благодушие выражалось в них и во всей фигуре небольшого, но крепкого и бодрого старика.
Он был в белой холщовой рубахе и таких же штанах, из-под которых высовывались широкие ступни пожелтевших и растрескавшихся ног. Какими-то безобразными наростами торчали ногти на пальцах ног, да и сами пальцы имели странную форму искривленных четырехугольников, несколько суженных у основания. Видно было, что не знавали эти мозолистые ноги другой обуви, кроме лаптей с баклушами, да разве изредка, в праздники только, обувались они в жесткие, точно из железа выкованные сапоги, подбитые чуть не вершковыми гвоздями, от которых остались глубокие знаки на толстых, покрытых мозолистыми наростами пятках.
И не один год служили эти сапоги своему хозяину, но, наконец, износились же и они. Сначала у одного сапога распоролся боковой сшивок. Помочил его старик, зашил и думал носить еще долгое время, как у другого сапога отпала подошва. Опять старик положил в воду свой сапог, приготовил крепкую дратву, выбрал острое шило и, вытащив сапог из воды, попробовал подошву шилом. Жестко, точно железный пласт. Уж, кажется бы, и острое шило, а не берет. Пришлось оставить сапог в воде до вечера, и только вечером мог он наконец приняться за свою работу. Приколачивая подошву, он плотно сжимает губы и наморщивает брови, точно думает прибавить этим силы своим неуклюжим, выпачканным в дегте пальцам, и щурит глаза, продевая дратву, и кряхтит, и стискивает зубы, стараясь продернуть ее с быстротою и ловкостью, свойственными коренным сапожникам.
Весь погружен он в свое занятие, и ничто не может отвлечь его внимания, кроме разве ржания застоявшихся жеребцов, смотреть за которыми была его обязанность. Уж несколько времени из лесу, с левой стороны от конного двора, слышна заунывная песня и потрескивание сухих веток, но старик не слышит их и не видит, как вышел из лесу молодой двадцатилетний парень в таком же наряде, какой был на старике, с тою только разницей, что голова парня была покрыта истасканной фуражкой, а ноги обуты в дырявые коты, привязанные у лодыжек толстыми шерстяными шнурками. Он подошел к старику и несколько времени молча стоял возле рундука, где сидел старик.
— Что, починил? — спросил парень, когда старик продернул дратву в последний раз, завязал ее узлом и отрезал.
— Починил, Гришенька, починил, — весело отозвался старик, поднимая голову и самодовольно поглядывая на парня, появление которого, повидимому, нисколько не удивило старика.
— Починил, — продолжал он, разглядывая свою работу, — теперь крепко будет, ни вовеки не отпорется, потому дратва во какая здоровенная!
И он показал концы своей здоровенной дратвы парню.
— У тебя что это коты-то, не распоролись ли? — добавил он, поглядывая на ноги парню. — Давай подошью, во и дратва осталась.
— Не, это дыра; лопнули, значит. Не стоит починять, потому худы очень. Так только в лес надел, чтобы ног не кололо.
Говоря это, парень поднял свою ногу и подставил ее чуть ли не к самому носу старика. Тот посмотрел и, увидев, что действительно починять не стоит, стал убирать шило и дратву.
— А где серуха ходит? — спросил старик, вставая и подходя к отворенной двери.
— Здесь, недалеко, — ответил парень, — слышь, побрякивает? Это она.
— Ты разве брякунцы на нее навязал?
— Навязал, потому больно она лукава, без брякунцов ее и не сыщешь; затянется в самую глушь, да и стоит — не ворохнётся, только ушами прядёт; я это сколько места оббегал, искал ее, а она тут и есть — у Лысой горы ходит.
— А игренько где? — продолжал спрашивать старик.
— Игренько, во тут, у озерка.
И парень показал рукой, где ходит игренько.
Старик опять уселся на прежнее место и снова принялся рассматривать и разглаживать рукой починенный сапог. Налюбовавшись своей работой, старик поставил сапог возле себя, поглядел искоса на парня, как-то особенно сжал губы, будто собираясь заговорить, и опять искоса взглянул на своего собеседника. Тот упорно глядел в землю; его молодое красивое лицо было озабочено какой-то неприятной думой, густые прямые брови нахмурились, широкий лоб наморщился. Он глубоко вздохнул, тряхнул головой, снял свою истасканную фуражку и сильно почесал свои густые русые волосы.